Сегодня замечательному белорусскому режиссеру Михаилу Пташуку -- "Знака беды" и "Нашего бронепоезда", "Кооператива "Политбюро" и "Момента истины" -- могло бы исполниться 70 лет. Я дружил с Мишей на протяжении многих лет – до самой его трагической и нелепой гибели под колесами автомобиля. По просьбе вдовы Пташука несколько лет назад написал о нем воспоминания для книги, которая вышла в Белоруссии. Вот эти страницы …
Мы познакомились с Мишей - страшно подумать - более тридцати лет назад. После окончания Ленинградского университета я распределился в Минск, в задорную и очень живую по тем застойным временам газету "Знамя юности", где уже дважды бывал на практике. Безумно влюбленный в кино, я в первый же свой рабочий день позвонил на студию "Беларусьфильм" и поинтересовался, о съемках какого фильма можно сделать интересный репортаж для газеты. "Езжайте в Смолевичи, там как раз режиссер Михаил Пташук снимает телесериал "Время выбрало нас", - ответили мне.
Назавтра я был уже на знаменитой натурной площадке "Беларусьфильма", где многое меня, новичка в мире кино, приятно поразило. По моим тогдашним ощущениям, в Смолевичах можно было делать кино на любую тему - от детской сказки до эпической народной драмы. Собственно, так оно в реальности и происходило: Леонид Нечаев мог снимать в одном углу огромной натурной площадки своей очаровательной «Красной шапочки», а в другом - Михаил Пташук обживал декорации сожженной школы для своего фильма "Время выбрало нас". Он встретил меня - огромный, шумный, с взлохмаченной рыжей гривой - без всяких излишних церемоний. Сунул перепачканную сажей лапищу для приветствия, сразу предложил общение на "ты", хотя к тому времени был уже набирающим известность режиссером, успевшим поработать в театрах Москвы и Казани, поставившим прелестный фильм "Про Машу, про Витю и морскую пехоту", а я, повторяю, только что окончил журфак.
Мы много говорили тогда о кино, о его новом фильме. Сошлись на любви к Тарковскому, к Георгию Данелия, к недооцененному белорусской критикой фильму Виктора Турова "Я родом из детства". Меня порадовало, что Пташук, к которому я проникался все большей симпатией, не пытался вешать лапшу на уши молодому журналисту, чем так любят грешить многие его коллеги. Потому он отдавал себе трезвый отчет в несовершенствах сценария фильма "Время выбрало нас", который тут же предложил почитать мне и высказать свои соображения, в первую очередь критические. К слову говоря, он так поступал всегда - каждую новую работу обязательно проверял на своих друзьях, коллегах: охотно давал читать сценарии, показывал отснятый материал - и все просил быть построже в оценках. Случалось, он отказывался от сценариев едва ли не накануне запуска, но если брался за работу, то вгрызался в материал всерьез. Помню, как он измучил меня во время окончательной "доводки" фильма "Знак беды". "Леня, подумай, как усилить финал", - вопрошал он, в десятый раз прокручивал пленку с последними трагедийными аккордами фильма, на мой взгляд, безупречными. Он же так не считал и мучил меня, работавшего тогда членом сценарной коллегии "Беларусьфильма", мучил своего старшего друга Виктора Турова, мучился сам...
Но до этого этапного кинополотна в его судьбе еще надо было дожить, дорасти. Предстояло сначала поднять пятисерийную глыбу фильма "Время выбрало нас", что для режиссера, снявшего до этого лишь две достаточно безмятежные детские картины, было делом по-своему непростым. И не все, надо сказать, ему в итоге удалось, хоть лента и была впоследствии удостоена премии Всесоюзного Ленинского комсомола. Конечно же, фильм "Время выбрало нас" местами напоминает партизанские "боевики", схожести с которыми Пташук, кстати сказать, очень опасался. Есть в картине и традиционные сюжетные повороты, словно взятые напрокат из тех лент, где война представала в облегченном изображении. И все же...
И все же работа над этим неровным, но постепенно набирающим искренность и силу фильмом стала для Пташука важной вехой. Стала школой профессионального мастерства, нравственного мужания. Я помню, как поразил его вал писем, который пришел на студию после демонстрации ленты по ЦТ. Особенно потрясло его письмо из Мордовии от женщины по фамилии Пташук, которая в первые дня войны потеряла под Брестом сына, и, увидев знакомый до боли материал и соотнеся его с фамилией режиссера в титрах, загорелась святой материнской надеждой. А сам режиссер отныне всерьез загорелся военной темой, к которой, как мне кажется, был "приговорен" всей своей судьбой. Он родился в 1943 году, в землянке на окраине деревни, в которой мать пряталась от гитлеровцев. Не каждому жизнь дала такой трагический, страшный опыт в самом начале жизни...
– Когда погружаешься в материал, связанный с войной, - рассказывал мне Миша, - то каждый раз не покидает ощущение, что ты все это видел сам. Тем более что эхо войны настигало нас, "подранков", то жестким голодом, то взрывом снаряда под ногой неосторожного пацана (несколько моих друзей-одногодков стали инвалидами), то запоздалой вестью о гибели отца. Моя мать в 27 лет осталась одна, пережив смерть мужа и двоих детей. Страшно подумать, каково ей было начинать жизнь на пепелище прошлого...
Миша часто возвращался в своих разговорах к маме. Он любил ее очень искренней, я бы даже сказал, истовой любовью. При всякой возможности ездил в деревню на Брестчине, где она жила. Устраивал там премьеры своих картин. Снял неподалеку от своих родных мест фильм "Возьму твою боль" - в том числе и потому, что хотел быть поближе к маме. Привозя ее в Минск, устраивал для нее консультации у лучших врачей. Он буквально почернел, потерял себя, когда мамы не стало. В его разговорах часто проскальзывало: "Когда мама была еще живой...", "Теперь я сирота"... Неудивительно, что тема материнской самоотверженности стала одной из главных в его творчестве. Этой светлой и горькой нотой пронизаны многие его картины. Они так и идут в его фильмах рядом - Война и Мать. Как две вечные и непримиримые антитезы. И мать всегда оказывалась сильнее войны - даже если она и погибала, как это происходило в выдающемся, на мой взгляд, фильме "Знак беды".
С образом матери был связан еще один замысел Михаила Пташука, увы, нереализованный. Помню, мы делали с ним интервью. Поговорили, как мне казалось, обстоятельно и подробно. Утром - звонок: "Я сейчас приеду". Вошел, как обычно, взлохмаченный, с красными (как выяснилось, от бессонной ночи) глазами, положил на стол крупным, размашистым почерком исписанные странички: "Я написал это ночью. Откорректируй, поправь, убавь, что считаешь нужным, но это обязательно должно войти в интервью. Тут то, что меня сегодня по-настоящему волнует". Было бы грешно не процитировать здесь хоть кусочек из того рукописного текста, который я храню в своем архиве:
"Когда я покидал театр, которому вместе с учебой на режиссерском факультете Щукинского училища отдал в общей сложности десять лет, то думал, что всю жизнь буду снимать фильмы о современной деревне. Но моя творческая биография складывается пока так, что чем более желанной кажется цель, тем труднее ее достичь. Мне уже много лет представляется такая сцена: приходит человек к отцовскому дому, трогает рукой калитку, а она не открывается - заросла травой. Это как сон, как камертон будущего фильма. Дело в том, что большая часть моих сельских одногодков уже давно живет в городе, но я уверен, что почти каждый из них при первой же возможности садится в автобус или электричку и едет домой. И где-нибудь в поле или на берегу реки у него обязательно защемит сердце... Я уверен, что пришло время сделать такую картину - заглянуть в душу человека, который однажды променял луг на асфальт, и понять, что с этой душой происходит. Мне близка эта тема потому, что я сам двадцать лет назад оставил родную деревню Федюки на Брестчине. Там все родное: поле, луг, река, яблони... Те самые яблони, которые мать давным-давно посадила, а теперь хочет срубить. Откуда такое жестокое желание? Дело в том, что я последний в нашем роду, мать большую часть года живет в Минске, и двор наш, стало быть, когда-нибудь совсем опустеет. Мама понимает это, и, рубя яблони, она словно прощается с надеждами, что здесь, на земле дедов и прадедов, продолжится наш род. И меня гложет чувство невольной вины, которую неизвестно как искупить... Вот об этом мне и хочется снять свой заветный фильм".
Не сбылось, как не сбылись многие другие интересные замыслы Михаила Пташука - например, он мечтал поставить фильм о своем послевоенном детстве, так сказать, белорусский "Амаркорд". Но и то, что сбылось, состоялось, представляет собой огромный творческий материк. Не буду здесь подробно анализировать кинематографическое наследие Пташука - это тема отдельной книги. Скажу только, что его фильмы "Возьму твою боль", "Наш бронепоезд", "Кооператив "Политбюро", "Будет долгим прощание", "В августе 44-го...", уже упоминавшийся "Знак беды" - это, безусловно, ярчайшая глава в истории "Беларусьфильма". Из Москвы, где я живу с 1988 года, это особенно хорошо видно. В перестроечную и постперестроечную эпоху Пташук, по сути, был олицетворением белорусского кино, его безусловным и единоличным лидером, приняв творческую эстафету от своего друга, народного артиста СССР Виктора Турова.
Пташуку, может быть, не хватало лирической взволнованности, присущей лучшим фильмам Турова, пластической экспрессии, которой отличается творчество Валерия Рубинчика и Валерия Рыбарева, но он был силен другим - социальным, историческим, мировоззренческим масштабом своих картин. Кинематограф Пташука - это кинематограф крупных идей и страстей, кинематограф большого творческого "дыхания". Трагедия коллективизации с ее революционным пафосом и кровавым раскулачиванием, трагедия войны с ее подвигами и потерями, трагедия сталинщины с ее палачами и жертвами... Едва ли не все главные темы XX века нашли яркое, острое, зачастую дискуссионное воплощение в творчестве Пташука. Как только он брался за милые безделицы типа "Лесных качелей", "Игры воображения", - тут же терпел чувствительные поражения.
Скажу честно: Миша не был изощренным интеллектуалом, эстетом до мозга костей. Он не цитировал в разговоре Кастанеду и Кьеркегора, не всегда мог в разговоре безукоризненно разложить по полочкам экранизируемое произведение - здесь, кстати, не было равных его другу и соратнику, замечательному сценаристу Евгению Григорьеву. Но своим крестьянским нутром, обостренной интуицией, всеми порами своей кожи Пташук как-то органично, естественно различал правду и фальшь, подлинное и мнимое, по-настоящему злободневное и поверхностно актуальное, и почти всегда безошибочно выбирал первое...
Последний раз мы подробно, подолгу общались с Мишей на фестивале "Киношок" в Анапе. Он приехал туда с режиссерским сценарием фильма "В августе 44-го...". Миша рассказывал о своих встречах с автором романа, о той атмосфере единомыслия, в которой протекала его работа с писателем. Недоумевал, почему не сработался с Богомоловым - "таким милым стариком" - Витаутас Жалакявичус. Несколько раз интересовался у меня, нужен ли сегодня такой фильм, не устарел ли материал. Я как мог укреплял его в желании сделать этот большой масштабный фильм. Ведь он так долго перед этим молчал... Миша не хотел снимать обычный приключенческий боевик и все толковал мне про образ Системы, который встает для него со страниц книги. Системы, подминающей, ломающей судьбы всех без исключения героев - в том числе и самых достойных из них. Мне такая трактовка зачитанного до дыр романа казалась неожиданной, но интересной. Он даже обещал снять меня по дружбе в эпизодической роли какого-то высокого армейского чина, но до этого дело, к моему большому сожалению, не дошло. Дело в том, что Миша очень требовательно относился к выбору актеров даже на крошечные роли, и в итоге, как я понял по фильму, нашел более убедительный типаж...
По вечерам мы пили молодое анапское вино, причем Миша со своей внушительной массой мог за несколько глотков опустошить литровую емкость ("Проскакивает, ну просто как сок", - смеялся он), и говорили, говорили, говорили... Не только о кино, но и о наших общих белорусских друзьях, о родных. Миша рассказывал о своей жене Лиле, о дочери Анжеле - он любил их трогательно и нежно. Вопреки бытующим представлениям о богемности профессии режиссера, он был благородно старомоден, по-хорошему патриархален в том, что касалось семейных отношений. Вдобавок Лилю, по-моему, всегда чуток побаивался. Человек веселый, достаточно, как мне кажется, легкомысленный во всем, что не касалось творчества, он легко и даже охотно подчинялся в обыденной жизни ее организующей воле. В той же Анапе Миша купил несколько пятилитровых канистр разливного красного вина, утрамбовал ими огромный – под стать собственным габаритам -- чемодан, вскинул на плечо. Вез это богатство в подарок Лиле, но канистры в чемодане потекли, залив рубашки, галстук, костюм. Миша это своевременно не заметил.
-- Иду я в Минске по проспекту Машерова, -- весело рассказывал он мне позже, -- а за мной, как в той песне, след кровавый стелется. Представляешь, какой я от Лильки получил нагоняй!
Я увидел их с Лилей и Анжелой несколько лет спустя на фестивале "Кинотавр" в Сочи, где фильм Пташука "В августе 44-го..." участвовал в конкурсе. Я куда-то торопился, поэтому перекинулся с ними только несколькими обычными фразами. Мог ли я подумать тогда, что вижу их дружное семейство в полном составе в последний раз, что Миша скоро трагически, нелепо погибнет - на самом взлете своей судьбы... До сих пор не могу простить себе своего торопливо-дежурного тона, не могу избыть горькое чувство вины, что чего-то главного я ему за многие годы, прошедшие после нашей первой встречи в Смолевичах, так и не сказал...
Эх, если бы знать. Если бы знать...
Опубликовать: ЖЖ







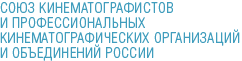
 опубликовал | 28 января 2013
опубликовал | 28 января 2013
комментарии (0)