ГЕРМАНУ ТОЖЕ ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ
Разговор с Германом (Виктор Матизен, 2000, "НИ"))
Алексея Юрьевича Германа я встретил между съемками фильма «Трудно быть богом» в историческом месте под Санкт-Петербургом, где он, как Шехерезада, рассказывал свои бесконечные и не повторяющиеся истории двум сотрудницам журнала «Сеанс». Разговор сам собой зашел о прошлом, лишь иногда стремительно выруливая к сегодняшнему дню.
– Тут, неподалеку от вас, в Комарово, жила Ахматова. Вы ее знали?
– Не знал, но несколько раз видел, и не здесь, а в нашей квартире на Мойке, и при довольно необычных обстоятельствах. Эта квартира была напротив квартиры Пушкина, и мой отец очень робел в ней жить, потому что когда он писал, ему казалось, что из окна вот-вот высунется Александр Сергеич в халате с трубкой и скажет: «Ты кто такой?! Ты что там делаешь? А ну, пошел отсюда – тоже мне, писатель!». Это была такая странная квартира, которую я пытаюсь восстановить вместе с предметами нашего быта тех лет, но ничего не получается…
– Что не получается в жизни, получается в кино?
– Иногда. Так вот, как-то утром лет в девять я бегу по коридору и распахиваю дверь в сортир, куда мне надо, и оттуда на меня поворачивается какая-то женщина в черном платье из какого-то шуршащего шелка с огромным носом орлицы. У меня возникло ощущение, что там сидит огромный орел… Она посмотрела на меня темными глазами безо всякого смущения, и я тоже на нее уставился, потому что ничего такого в своей квартире еще не видел. В эту секунду меня схватил непонятно откуда взявшийся отец, выволок на кухню и в диком смущении сказал: «Ты должен знать - это великий поэт!». Я спрашиваю: «Если она такая великая, че она крючок не закидывает?». Отец повторяет: «Это великий, великий поэт!». Не знаю, может и Пушкин не закидывал крючков…или тогда крючков вообще не было, а на часах стояли лакеи… А в Комарово я жил у Евгения Шварца, и помню их кота, которого звали Котан. Как-то он порвал ногу домработнице, и Евгений Львович, который и мухи ударить не мог, стоял над ним с большой суковатой палкой, стучал ею по полу и рассказывал, что с ним будет, если он в следующий раз порвет кого-нибудь. Но следующего раза решили не ждать, и котяра был приговорен к кастрации. Дальнейшего я не видел, но знаю из пересказов. Это было уже не в Комарово, а в «городе трех революций», как его называл секретарь ленинградского обкома Толстиков, добавляя: «И не надейтесь – четвертой здесь не будет!».
Короче, в один прекрасный день в дверь к Шварцам позвонили и на пороге вырос грузин-лейтенант в эмгебешной форме, с просветами на погонах, в голубой фуражке и с чемоданчиком. Все попятились. Он сказал: «Это не то, что вы думаете, это ветеринар», открыл чемоданчик, достал оттуда офицерский сапог и засунул кота головой в голенище. Котан был совершенно оскорблен - он даже представить себе не мог, что с ним можно так обойтись. Грузин между тем достал ножницы и одним парикмахерским взмахом отправил котовьи яйца в угол комнаты. Кот взвыл. Лейтенант взял сапог за подошву, махул, и кот вылетел из голенища в другую сторону комнаты, выгнулся и дико зашипел котовьим голосом, быстро переходящим в кошачий. Ветеринар большим грязным пальцем показал на кота и произнес фразу, которая много лет существует в нашей семье: «Нэ любит» - как будто где-то кому-то это нравилось… А Комарово до 1947 года называлось Каломяки, поезд сюда шел от Ленинграла 4 часа, и в нем было много было пьяных офицеров, просивших милостыню. Так что в «Хрусталеве» я не сочинял, а воспроизводил то, что видел. После войны они все были с оружием, то и дело заводили в шалманах стрельбу из-за баб, и пистолеты у них отобрали. Финнов в Каломяках я не застал, их всех повыселяли, кроме одного – может, раньше он был советским шпионом, а при нас торговал рассадой, цветами и овощами. Вместо финнов в образовавшуюся пустоту навезли киргизов, которым здесь не нравилось, и они постепенно исчезали, а на их место понаехали евреи, которые стали улетучиваться отсюда после 1949-го – на восток, а после 1967-го – на Запад, и мне кажется, что великий исход евреев из России начался из Комарова. А сейчас сюда едут новые русские на шевроле и мерседесах. Такое вот великое переселение народов. Может, когда-нибудь финны вернутся. Отцу здесь дали дачу как лауреату Сталинской премии – Морская улица дом один, телефон номер один. А у мамы здесь была усадьба. Мама была из семьи выкрестов - дед в 14 лет крестился, что не помешало ему стать действительным статским советником и, более того, служить в Святейшем Синоде, что так же невероятно, как для вступившего в партию еврея попасть в ЦК КПСС. В общем, Галич, который пел: «Ох, не шейте вы, евреи, ливреи» и «Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате», был не совсем прав.
– Отец ваш какого происхождения?
– Герман – фамилия подкидышей. Какой-то его предок был подкинут в семью русского генерала, который его воспитал и отдал в кадетский корпус, так что дальше все Германы шли по офицерской линии. А к отцовой крови еще подмешался немецкий род Клюге…
– «Клюге» – значит «умный»…
– А я и не знал. Словом отец у меня - нет, а мама – да. Русские определяют национальность по самцу, евреи – по самке, так что мне удобно варьировать, но сейчас я числю себя евреем. Меня как-то пригласила на беседу одна крупная газета, и ее главный редактор или его зам вдруг спрашивает: «Почему вы все время говорите, что вы еврей? Вы ведь еврей всего на четверть». А я ему отвечаю: «Я с огромным удовольствием стану русским в ту же секунду, когда вы перестанете интересоваться, сколько во мне еврейской крови, на четверть или на восьмушку», а покуда вы их задаете, я уж лучше побуду евреем…». Государственного антисемитизма у нас сейчас нет, а общественный есть и разогревается он количеством евреев- финансистов. Отец мой, между прочим, считал, что Сталин специально напихал такое количество евреев в карательные органы - чтобы потом предъявить им счет. Он сильно наперед мыслил. А мама моя специально устраивалась еврейкой, когда они с бабкой в 1923 году вернулись из эмиграции.
– Когда они уехали?
– Как только «Аврора» стала пушку поднимать, так и дунули в Финляндию. Чтобы ей поступить в мединститут, будучи русской, нужно было доказывать что ты не принадлежишь к эксплуататорским классам, а с евреев этого не требовали, потому что они были народ экплуатируемый и насквозь оппозиционный к самодержавию. И моя мама давала взятку управдому, чтобы еврейкой записаться. Это еще что! У нас на Ленфильме был второй режиссер, который в 1943 году заробел поротой задницей, как писал Толстой, почувствовав, что евреям после войны будет нехорошо, и, будучи политработником, нырнул в крымские татары – ровно за полгода до того, как крымские татары попали в опалу и были выселены с исторической родины. Дальше он оказался в Ленинграде директором БДТ, и, поскольку все казалось тихо, стал проситься обратно в евреи. И вот в 1949 году его вызвали в обком и сказали, что он может получить в милиции новый паспорт, где будет восстановлена его национальность. Он сбегал в милицию и в новом национальном качестве в тот же вечер вылетел из театра, обгоняя собственный визг. Это я к тому, что у нас нужно быть очень внимательным и все время держать руку на пульсе… (Отпив «Боржоми»). Здесь неподалеку был шалман, куда местные обитатели сходились пить боржом. Шостакович, Козинцев, Шварц, Пантелеев, который «Республика ШКИД», все с большими палками, пижонье… К ним подошел человек и попросил попробовать – целая бутылка все-таки денег стоила. Ему налили полстакана, он глотнул, выплюнул и сказал: «А я думал, он жирный».
- И вы эту фразу вставили в «Лапшина»…
- Ага, вы уже понимаете, откуда у фильма ноги растут. А папу возил тот же шофер, что секретаря обкома Капустина. Шофера звали как Чапаева, а своего седока он никогда не называл по имени-фамилии, а исключительно Пассажиром. От этого водилы папа впервые узнал про то, что над Зощенко и Ахматовой собираются тучи, потому что Пассажир, садясь в машину, сказал: «А мне какую-то Ахматкину шьют…». В первом варианте этого исторического постановления была фраза «подозрительно хвалебные статьи Германа о Зощенко». Я ее на экзамене сдавал. Про это постановление есть история, за подлинность которой отвечает писатель Александр Капица, который был тогда одним из партийных руководителей Ленинградского СП. Он утверждает, что Сталину было абсолютно все равно, кто там будет - Ахматова или кто другой. И народу было все равно, потому что он в равной степени не знал что Ахматову, что Тютькину. Сначала были выбраны две жертвы – Комиссарова, была такая маленькая поэтесса, жена Николая Брауна, и Ахматова. Но главный ленинградский партийный поэт Прокофьев поэт дружил с семьей Брауна, и Комиссарову вывел из-под постановления, а Ахматову не любил и оставил. Когда начиналось «ленинградское дело», Капицу в числе других вызвали в Кремль, и он заметил, что на всех постах вместо лейтенантов стоят полковники. Потом появилось правительство и с ним какой-то маленький старичок, у которого сквозь редкие волосы на голове просвечивала розовая кожа, был сломан зуб, а лицо покрыто оспинами. Капица спросил рядом стоящего полковника: «Кто это?». Тот посмотрел на него безумными глазами и ответил: «Ты что, мать твою?! Это Сталин!». А потом на встрече вдруг что-то очень резкое сказал про моего отца Маленков. И мгновенно в него вцепился Жданов, потому что Маленков полез не в свою конюшню. И впоследствии в пику Маленкову отца не тронул. А Капустина расстреляли.
- Вашего отца Бог сохранил подписать какое-нибудь гадостное письмо?
- Для меня было бы полной неожиданностью узнать, что он куда-то влип. Во всяком случае против Пастернака и против Солженицына он не выступал. А когда началось дело Бродского, то чуть не спустил с лестницы провокатора Лернера и начальника ленинградского УВД, с которым много лет дружил. Они как раз пришли к нему за подписью против Бродского. Отец, едва услышав, чего они хотят, распахнул дверь и заорал: «А ну, пошли отсюда к е… матери!». Когда объявили, что Сталин умер, отец бегал по комнате и кричал: «Сдох, сдох, сдох – хуже не будет!!!». А вечером, когда он квасил с Макогоненко, чтобы Иосиф лучше жарился в аду, позвонила пьяная Ольга Бергольц, и пьяный Макогоненко ей сказал: «Жаль что тебя нет – мы тут так хорошо сидим!». Она от ужаса выронила трубку…
- Как же это вы, Алексей Юрьевич, при такой любви к подробностям и реалиям, решились снимать фантастическую повесть, где действие происходит на другой планете?
- Так я ведь могу и провалиться. Мне вот тут по вечерам девочки показывают Бергмана, и я вижу, что он единственный режиссер, который на моих глазах ни разу нигде не завалился. А где завалился великий Тарковский, которого мы тоже смотрели, я знаю, но не скажу. Со Стругацкими я вижу опасность – и поэтому, может быть, мне удастся ее избежать… Предметная среда – это только одна из опасностей. Другая в том, что книга была построена на ассоциациях – в том числе со вторжением в Чехословакию. А фильм на чем строить? И другой момент – что делать с землянами, которые всех учат, как правильно жить? У Стругацких была эта коммунарская иллюзия, которая сейчас смешна. И если поглубже вчитаться, то Румата, который схватился за меч только тогда, когда убили его бабу – совсем не Бог…
- А если бог, то древнегреческий, со всеми человеческими пороками, усугубленными силой…
- И этому богу нужно придумать мир. Отчасти похожий на наш, отчасти другой… Если ничего из этого не выйдет, то кина не будет. А все будут его ждать, потому что роман многие знают по фразам.
- «Почему бы благородному дону не позволить высечь себя?»
- Вот-вот. Хотя в кино разговоры – последнее дело…
- И вы потому в «Хрусталеве» вы устроили такое вавилонское смешение, что и слов иной раз не разберешь?
- А вы как в Канне начали с этой темы, так до сих пор и не разобрались?
- Разобрался… с третьего просмотра на одну треть…
– А легкой жизни вам никто и не обещал. Про «Лапшина» тоже говорили, что там понять ничего нельзя, письма писали на телевидение, что фильм сжечь надо на площади вместе с автором, а теперь смотрят – и все проще пареной репы. Так и с «Хрусталевым» будет – и вы до этого доживете… Люди привыкли к американскому кино, вот и весь секрет непонимания. Когда я был на фестивале в Сан-Франциско и представлял там картину, его директор сказал, что они давно делают картины для тринадцатилетних дрочил и приучают весь мир на это смотреть. А Линч, Тарантино и прочие хитрожопы делают то же самое, но при этом подмигивают «своему» зрителю – вы же понимаете, что это мы над этими кретинами смеемся, а они думают, что мы всерьез. И все платят деньги. Неужели Бергман или Тарковский так сложны, что их можно смотреть только с тремя высшими образованиями? Да ничего подобного, их и домработница поймет, если захочет. А тут один из наших известных продюсеров сказал, что если бы к нему пришел Тарковский, то он бы ему денег не дал, потому что он зрителям непонятен. Этому продюсеру не приходит в голову, что для него, который никто, ничто и звать никак, огромная честь, если к нему придет Тарковский и попросит его о помощи. Что про него во всех энциклопедиях будет написано, что он – тот человек, который помог Тарковскому! А так он умрет - и на следующий день жена забудет, как его звали! Я не люблю Солженицына, потому что в «Теленке» он нехорошо написал о Твардовском, которому Господь отпустил не меньший талант, чем ему самому, но когда передачу Солженицына убрали с ОРТ, я написал директору этого канала, что он останется в истории одним позорным шагом. Мелкие люди… Мой отец был корреспондентом на Северном флоте, цензура тогда была не чета нынешней, но врать он себе не позволял. А этот убогий пресс-атташе, который непрестанно лгал насчет «Курска», причем было видно, как он совершенствуется в этом низком мастерстве - сначала он врал и заливался потом от стыда, потом только чуть краснел, а под конец уже лгал с каменным лицом! Потому что после каждого раза его гладили по головке и говорили: «Молодец, умница, хороший мальчик…».
Опубликовать: ЖЖ
Скорбим...








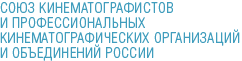
 опубликовал | 24 февраля 2013
опубликовал | 24 февраля 2013
комментарии (0)