Сегодня Саше Абдулову было бы 60. Трудно его себе представить шестидесятилетним, но можно: он был бы все тем же - абсолютно, стопроцентно, обезоруживающе молодым.
В моем диктофоне его голос. Запись нашей первой и последней большой беседы. Хотя в добрых отношениях мы было несколько десятилетий. Почему так вышло - я рассказываю в своей книжке "Там, где бродит Глория Мунди".
Его дебют в «Ленкоме» состоялся в героическом спектакле 1970 года «В списках не значился» по Борису Васильеву. Я был на премьере вместе с группой коллег из «Искусства кино». После спектакля наш редактор Евгений Сурков предложил зайти за кулисы – поздравить молодой талант с блестящим стартом.
Мы сразу перешли «на ты». И тогда же договорились встретиться для интервью. Оно не состоялось – не помню, почему. Наверное, потому что актер молодой совсем, мало кому известный – рано еще.
«Я не знаю, есть ли у Абдулова резервы. Могу только надеяться, что он найдет новые краски для новых ролей. Своего Плужникова он играет так, словно это его первая и последняя роль и здесь нужно отдать все, выложиться до конца», - написал я в журнале «Театр» в ноябре 1975 года, еще не зная, что только так Абдулов и будет играть всегда, всю жизнь, все роли.
Известным он стал очень скоро. Потом знаменитым. Потом вошел в кумиры и секс-символы экранов. Он был уже директором Московского кинофестиваля, режиссером собственных спектаклей и создателем нашумевших на всю Москву «Задворок» - театральных представлений во дворе «Ленкома». А мы все договаривались об интервью: «Привет. Слушай, а не пора ли поговорить наконец?» - «Давно пора, давай звони». Потом - то он уезжал на съемки, то я – в командировку, и мы только дружески улыбались при редких встречах: «Ну, Саш, пора». – «Ох, пора, Валер, звони».
Он почему-то чувствовал ко мне доверие, я почему-то чувствовал доверие к нему. И это интервью все эти годы было у меня фактически в кармане – его только надо было взять. Так, живя в Москве, откладываешь с недели на неделю визит в Третьяковку – вот же эти сокровища, всегда рядом, в любой момент пожалуйста. И так можно планировать этот визит всю оставшуюся жизнь.
Но в 2007 году вышел фильм «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны», где Абдулов сыграл смерть своего героя. Он сыграл ее так, словно уже видел ее в глаза. Я, как лунатик, потянулся к телефону.
– Саш, давай все-таки встретимся. Ты сыграл фантастически. Я не понимаю, как так можно играть. Называй время.
Он тут же назвал завтрашний день. Назначил встречу в своем кабинете в «Ленкоме», пришел точно ко времени, обещал выделить целый час. Мы проговорили часа два. Я уже начинал дергаться: злоупотребляю гостеприимством! «Давай еще поговорим, если не торопишься» - говорил он. И мы говорили еще. О разном. О театре, о туризме, о рыбалке и вертолетах, о новой премьере, к которой он готовился, и о его дебютной роли, которую он до сих пор знал наизусть.
Меньше чем через год Саши Абдулова не стало. Вспомнились слова великой Рины Зеленой: «Сейчас очень принято умирать». В «Веселых похоронах» он репетировал собственную смерть, уже глядя ей прямо в глаза и, по-моему, ее не страшась.
Это была роль художника-эмигранта, который умирает от рака вдали от России, в последний раз собирая вокруг всех тех, кого он любил и кому он дорог. Это Алик из повести Людмилы Улицкой «Веселые похороны», которую экранизировал режиссер Владимир Фокин. К названию повести фильм добавил свое: «Ниоткуда с любовью». Его авторам и актерам удалось заглянуть туда, откуда не возвращаются.
Картина для меня стала одним из сильнейших впечатлений года. Ее персонажи – наши эмигранты в Америке: сдвинувшийся с места островок вечно бегущей от самой себя России. Герой Абдулова, художник Алик с гривой рыжих волос, уже знает, что должен умереть от рака, а пока он прикован к инвалидному креслу и донимает близких загробными приколами – иначе он, неисправимый бунтарь и бабник, жить просто не умеет. Действие протекает в огромной гулкой нью-йоркской квартире-мастерской, где вместо двери – лифт, а все остальное напоминает советский коммунальный быт, тщательно перенесенный сюда, в железобетонные манхэттенские просторы. Бывшим нашим людям, несмотря на жару, здесь холодно – живут как на чемоданах. Время от времени действие перебрасывается в прошлое, когда они еще жили в Ленинграде, шепотом травили анекдоты про советскую власть, мечтали о свободе, но были, как ни странно, счастливее. Здесь мы и увидим Алика, каким он был когда-то, - непризнанным властью талантом, убежденным диссидентом и яростным ходоком, всегда и везде умудрявшимся быть центром женской вселенной. Абдулов играл крупно, мощными драматическими мазками набрасывая контуры личности незаурядной и неукротимой. С этой роли мы и начинаем наш разговор.
Каждая минута
– Ты еще никогда не играл ничего подобного. Откуда вдруг такое знание, как выглядит смерть вблизи?
– Был период: я на год загремел в больницу. Ты можешь представить меня на больничной койке в течение года? Под дулом пистолета это невозможно! Но вот случилось. В таких случаях меняется вся шкала жизненных ценностей. Лежу при задернутых шторах. Отдернешь штору – снег. Ага, думаешь, - зима! Снова отдернешь – листочки пробиваются. Ага – весна! И начинаешь очень отчетливо понимать: тебе отведена довольно короткая жизнь. И как только это поймешь, - начинаешь ценить каждый день, час, минуту. Потому что ничто в жизни не повторяется, все - уникально. Вот мы сейчас сидим в этом моем кабинете, разговариваем – и этот разговор уже никогда больше не повторится! Будет другой – но такого не будет. И вот как только это поймешь – ты уже не сможешь транжирить свою жизнь, как раньше. Ты принципиально иначе станешь к ней относиться. И дальше все зависит от тебя: чем больше ты просвистываешь свою жизнь, тем быстрее идешь к концу.
– И что, тебе действительно удалось что-то изменить в своей жизни?
– Я перестал так суетиться. Суета становится смешна: зачем, ради чего?! Кто-то скандалит из-за мелочей – а тебе это уже неинтересно.
– Твой Алик в фильме вырос из этого опыта? Он словно смотрит уже с той стороны вечности.
– Да, он еще здесь - а суета уже отлетела. Я это испытал. Когда уже не удивляешься, что никто не приходит, не звонит. Был Саша – не станет Саши, ну и что? Но вот проходят дни первого ужаса от случившегося, и ты вдруг понимаешь, что человек может привыкнуть ко всему. Тогда и приходит какой-то новый покой. И новая мудрость.
– А больше прототипов у Алика не было?
– Нет, только мой собственный опыт. Мне казалось, этого хватит. Все-таки уже почти 54 года - многое повидал и много чего испытал.
Хичкок отдыхает
– Вообще-то нам в России органически не свойственно проживать каждый миг - чтоб его ощутить, им проникнуться. Им насладиться, если хочешь. Помню, впервые оказался в Ватикане, в Сикстинской капелле - сижу и думаю с отчаянием: вот буду же потом вспоминать эту минуту как счастье, а пока - просто хочу есть. Даже в такой уникальный момент, который вряд ли повторится, я торопился куда-то дальше.
– Точно такое же ощущение у меня было, когда я оказался на Северном полюсе.
– Как тебя туда занесло?
– Собрался с друзьями - и полетели. 25 человек. Долетели до Красноярска, потом местным рейсом до Хатанги, где нам показали мамонта в вечной мерзлоте. Представляешь: стоит в глыбе льда как живой – а бивни наружу. Очень странное ощущение: миллионы лет прошли, а он все стоит. И я его сквозь лед разглядываю. Потом полетели на полюс. И тоже странное ощущение: самый обычный снег! Правда, лед почему-то отдает сиреневым. Океан потому что. Обозначили на снегу круг с полюсом в центре. И, шагая по этому кругу, обошли с востока на запад весь мир. Шампанского по этому поводу выпили. Тоже странно: выпьешь - и бокал тут же пошел морозными узорами. Градусов тридцать, но если подует легкий ветерок – сразу сорок пять. А я никак не могу осознать, что передо мной Северный полюс. Мне опытные люди сказали: ты Севером заболеешь - но потом. И действительно: шесть лет прошло, и каждый год мы, «полярники», собираемся и вспоминаем, как это было. Хотя вроде ничего и не было – снег и снег. Но он мне теперь снится.
– А как ты вообще проводишь свои досуги?
– Я подсел на рыбалку. Езжу в Астрахань: у моего товарища там маленькая гостиничка в камышах. И это самый великий отдых, какой я знаю. Встаю в пять, в полшестого, завтракаю, сажусь в лодку. Там у меня молчаливый егерь – молчит все время. И мы уезжаем в камыши на весь день. Рыбалка сумасшедшая, но дело даже не в рыбе. Дело в том, что над тобой летают стаи лебедей, пеликанов, цапель каких-то. Цветут поля лотоса. И ты один - тебе не надо ни с кем разговаривать, кому-то что-то доказывать. Даже не представляешь, какой это кайф! Я туда езжу раз пять в году. Как идет дело к поездке в Астрахань – я уже плохо сплю, начинаю что-то собирать, готовлюсь, как к премьере в театре. Такая бессонница бывает перед спектаклем. Обожаю. А еще фантастический отдых - в Якутии! Из Якутска нас вертолетом пять часов поднимали в горы. И оттуда мы неделю сплавлялись на лодках до Лены. И это сказка – никакие Дубаи не сравнятся. Вот рассказываю – и у меня руки от азарта трястись начинают.
– А за границей ты на что-нибудь подсел?
– На Мальдивы. Но не туда, где курорты. Мы в складчину арендуем яхту и уходим на необитаемые острова, ловим рыбу. Там я понял, что такое «Старик и море»! Потому что поймал барракуду в метр семьдесят три. А они, по учебникам, максимально доходят до метра девяносто. Из головы мне сделали чучело, теперь стоит дома. Такая, понимаешь, морда – ужас! Я эту рыбину вытаскивал два часа. Тунца поймал шестидесятикилограммового.
– Прагматик спросит: а что с ними делать?
– Отдаем местным, они что-то с ними делают. Это мне уже неинтересно. Интересен – процесс. У нас на Мальдивах была страшная история – Хичкок отдыхает. Мы вернулись с рыбалки на яхту, и вдруг непонятно откуда налетели миллионы чаек. И вся яхта вмиг оказалась покрыта птицами. Темно, ночь уже. Мы смотрим на них через стекло, они в окно бьются. Все забито чайками, им сесть уже некуда – хлопают крыльями, кричат. Я выхожу из каюты и вдруг вижу в конце коридора одну чайку. И она - шлеп-шлеп – медленно идет на меня. И знаешь, так стало страшно – не могу передать: Хичкок! А рыбалка там – смешная. Микромодель нашей жизни. Ночь, мощный фонарь, его лучи уходят в воду. И в этом круге света, как на сцене, вьются тучи мелких рыбешек. Потом появляются рыбки побольше и начинают эту мелюзгу жрать. Потом вплывают рыбы крупные – и начинают поедать тех, что побольше. И так по нарастающей, пока в глубине не появятся тени акул. И акулы деловито поедают уже совсем больших рыбин. Я на это смотрел: мама родная, что же это такое! На твоих глазах абсолютнейший разбой. И не поможешь никому, ничего не изменишь. Совершеннейшая модель человеческого сообщества.
– Ты по натуре – экстремал?
– Да. Хотя когда случилась эта беда с ногами, многое сразу отпало. Считают, что я охотник и все время дарят мне ружья – но я ни разу из них не стрелял. Но рыбалка – мой пунктик. А какая рыбалка на Камчатке! Еще очень хочу в Карелию попасть, где пока не был.
– Из всех этих многочисленных экстримов – что у тебя было самым сильным впечатлением?
– Вообще-то я не считаю это экстримами. Вот сплавляешься к Лене: приток неширокий, метров десять, и перед тобой, в метре буквально, медведь. Ему один прыжок сделать – и можно нас свободно съесть, но он просто смотрит: что там за дурак проплывает? Лось выйдет навстречу. Медведей на Камчатке дикое количество. Тут ты ловишь рыбу, а на том берегу – медведи. Если их не трогать – никогда в жизни не подойдут, занимаются своим делом.
– Ты все больше по части романтики. А другие жалуются: комары!!!
– У меня есть два товарища, которых я тоже хотел подсадить на рыбалку и повез в Астрахань. Там на всю округу был один комар, и они его тут же нашли. И на другой день уехали.
– Но в Сибири-то комаров, как известно, тучи.
– Ну, помажешься, ну, покусают – делов то. Рыбалка же! Ты ж сам туда поехал, никто не обещал, что будет легко. Но вот так летая, я для себя открываю страну.
– Там совсем другие люди, замечал?
– У меня два было потрясения в этом смысле. Первое – когда сплавлялись по Лене: егеря, которые с нами были, убирали каждый «бычок». Мы ведь как привыкли: посмолил и бросил. Тем более до ближайшего поселения – пять часов лету. Но они все равно любую мусоринку сначала в костер, а потом закапывали - потому и природа там чистая. А второй раз я изумился, когда прилетел на съемки в Красную поляну под Сочи, и меня вертолетчики подняли на три тысячи метров. Под нами – зеленое море. Я бросил «бычок». Вертолетчики сказали: «Пожалуйста, не надо. Здесь туры пасутся – и если почуют запах человека, то больше сюда не придут». Значит, есть люди, которым небезразлично. Они не просто живут, только потребляя и ничего не давая. С той поры всегда хожу с баночкой для мусора.
– Самолетом рулить не пытался?
– Нет. Даже желания такого не было. Хотя стюардессы часто подходят и говорят: «Вас просят пилоты в кабину». Но я уже столько насмотрелся взлетов и посадок, что не хочу.
Дети полдорог
– У меня застряла в памяти твоя дебютная роль в «Ленкоме»: брестский солдат Плужников в спектакле «В списках не значился» по Борису Васильеву. И знаешь, какой момент? Твой прощальный рывок на публику – и в вечность. Это было романтическое восприятие жизни и смерти за высокую идею. Ты был искренен тогда? Верил в эту романтику?
– Конечно, абсолютно.
– Но это же было сплошь вранье, как мне объяснил один очень хороший артист!
– Я только года два назад понял замечательную фразу Андрея Вознесенского: «Мы - дети полдорог». Я - дитя полдорог: одной ногой стою в советском времени, а другой – здесь. И не хочу терять ни то, ни другое. Потому что тогда было очень много хорошего. Уж не говорю о том, что тогда и отец и брат были живы. И роли были превосходные, и за эти роли мы сражались. Сейчас попробуй позвать молодого актера в массовку! Нет, он сразу Гамлета хочет! Предложи ему пять спектаклей в месяц – он покривится: «Много». А я тогда играл по тридцать пять! И массовки и главные роли. Причем хотел этого, понимал, что шанс дается один раз. Я к театру отношусь не как к работе, а как к дому. Вот этот кабинет - мой дом. Здесь многое сварилось: и наш проект «Задворки», и «Звезды «Ленкома»… А если это дом, то в нем надо жить честно. Здесь нельзя лукавить – дом этого не прощает. Если обманываешь свой дом – тогда лучше живи в гостинице.
– В каком состоянии этот дом сейчас?
– Классик сказал, что театр живет 15-20 лет, потом мумифицируется. Но вот мы, театр Марка Захарова, существуем уже тридцать с лишним - и свободных мест в зале не бывает. Естественно, появляются какие-то болячки, кого-то что-то не устраивает, но брожения разрушительного нет. Многие театральные дома давно разорены, у нас это по-прежнему - дом. Вот ремонт надо сделать, полы сменить – нормальная жизнь. Сейчас репетируем «Женитьбу» Гоголя. И Захаров в этот спектакль собрал всех: Чурикова, Саша Захарова, Янковский, Збруев, Хазанов, Раков… Когда такие люди собираются вместе – это фантастика. Я даже хочу с собой видеокамеру брать: такая репетиция – это отдельный спектакль.
– Все самое интересное, как всегда, проходит без зрителей!
– Каждый устраивает свой бенефис. Мы таким составом собирались только однажды – на «Оптимистической трагедии».
– Помню, как спектакль «Три девушки в голубом» по Петрушевской принимали дамы из ЦК КПСС – сидели рядком и все время укоризненно качали своими прическами-башнями. Приняли, кажется, с пятого раза.
– Это еще хорошо – с пятого! По десять, пятнадцать раз сдавали! Я на сдачу этого спектакля как-то привел Олега Борисова - он тогда только переехал в Москву. Встал человек из министерства и потребовал, чтобы Борисов вышел из зала. Мы с ним вышли и сели в бельэтаже, где нас не видно. Олег смотрел-смотрел и сказал: «И ты еще спрашиваешь, почему я уехал из Петербурга! Да там никогда такого спектакля не будет!».
– Грандиозный был спектакль. Но мой вопрос – к тому, что вся эта театральная роскошь появлялась в условиях цензурного пресса. Сейчас все можно – а ничего равного этому не возникает. Почему?
– Это очень характерная русская черта: нам надо, чтобы запрещали. Тогда – разворачиваемся. На кухне сели, все обсудили, очень смелые. Помнишь на Таганке: на фразе «Народ безмолвствует» - шквал аплодисментов. Сейчас скажи такое – ничего не произойдет: мол, ну, безмолвствует, дальше-то что? Публика изменилась. А кто ее делает тупее? Мы и делаем. Надо, чтобы публика за тобой шла, а не ты за ней. Телевидение идет за публикой так откровенно, что противно до тошноты.
Папарацци
– Ты написал письмо президенту – просишь защитить доброе имя артиста от журналюг. Считаешь, тут нужны государственные меры?
– Мне было интересно: ответит президент или нет? Ответил! Значит, я в этой стране чего-то стою. Не какой-то там фунтик, а – гражданин страны. Я хочу ощущать себя не жильцом в России, а ее гражданином. Полноценным человеком. Раз мы орем о демократии и правовом государстве.
– Я правильно понимаю: этим письмом ты не столько защищаешь собственное достоинство от желтой прессы, сколько пытаешься сформировать демократию в стране? Проверить ее в деле?
– Получается так. Хочу участвовать в этом процессе. Как любой человек. И если президент это слышит – значит, все идет нормально.
– Допустим. А как ты представлял себе воплощение этого письма в жизнь? У нас как бы объявлена свобода слова, клевету можно опротестовать через суд – президент-то при чем? Зажать рты журналюгам?
– Да нет никакой свободы слова! И при этом не осталось ни одного сколько-нибудь известного артиста, кого бы не облили грязью. Поэтому все, к кому я обратился, письмо немедленно подписали: Пугачева, Михалков, Захаров, Табаков…
– Какова все-таки была реакция?
– В Думе принимаются поправки к закону. Чтобы оградить честь и достоинство гражданина России. Чтобы те, кто оскорбляют, несли ответственность. Вот выходит очередная обложка, где моя фотография и какая-то чушь собачья, не имеющая ко мне никакого отношения. Люди на этой чуши зарабатывают огромные деньги. Они за мой счет увеличивают тираж. Я требовал в суде взыскать с них не 25 тысяч, как все, а сто. Потому что 25 тысяч они охотно отдадут и еще в лицо тебе рассмеются: пипл все хавает. Расскажут в газете, как проходил суд, и на этом заработают еще больше. Я их не ненавижу - просто не надо за меня дописывать мою жизнь. Все время только врут. Причем врут бездарно – ни придумывать, ни писать интересно они не умеют, у них нет фантазии. Меня давно обуревает идея – начать выпуск газеты под названием «Вранье». И если там будет хоть одно слово правды – можно подавать в суд.
– Ну, это не оригинально: таких газет много.
– Они утверждают, что вранье – правда, а я честно заявлю, что вранье – вранье.
– «Назовем-ка мы кошку кошкой»?
– Вот такими буквами. Газета будет пользоваться диким успехом.
– Ты сказал, что излечился от суеты. А сам продолжаешь воевать с желтой прессой. Ненавидишь журналюг?
– Это их выдумка. Когда вышла статья о том, что «Абдулов хочет купить лицензию на отстрел журналистов» - она ведь родилась в этом кабинете. Мы разговаривали с журналисткой Настей Ниточкиной, и она убежденно сказала, что никогда ни одна газета такого не напечатает. Мы поспорили, и через несколько дней вышла моя статья с этим названием. И очень многие приняли ее всерьез. Нет, я нормально отношусь к журналистам. Просто не нужно так врать и нужно хоть чему-то учиться. Когда приходит девочка и первым делом просит: «Расскажите что-нибудь смешное», или спрашивает: «Как вы стали артистом?» - мне хочется ее задушить. Однажды позвонили из какого-то телеканала: «Мы вас так любим, дайте нам интервью!». Хорошо, говорю, приезжайте в театр. Пауза. «А в какой?». В «Ленком», говорю. «А где это?». Отвечаю злорадно: «На Тишинке». Звонят через час: «Мы тут все обыскали – нет «Ленкома»!». О чем с такими можно разговаривать, объясни ты мне! А сколько запущено уток – уму непостижимо.
– Тогда займемся охотой на уток. Пишут, что у тебя беспрерывно угоняют машины – это правда?
– Угоняли пару раз, давно уже. Однажды угнали от театра, и министр внутренних дел поклялся мундиром, что ее найдут, – не нашли. Потом угнали вторую машину, и поклялся мундиром уже следующий министр. Не нашли.
– Мундиров не напасешься.
– Слава богу, что хоть щетки теперь не воруют. Раньше колеса снимали, щетки, по мелочам. А теперь благосостояние выросло, щетки никого не устраивают, воруют – комплектно. Прогресс. Что-то, значит, со страной происходит, застоя больше нет.
– Тебя вообще радует это поступательное движение нашей страны?
– Многое радует, но многое пугает. Пугает, что пошла охота на ведьм: если ты не с нами – значит, ты против нас. Пугает то, что часто происходит в Думе: вечная акция «Пчелы против меда». Вдруг объявляют борьбу с мигалками, но никто и не думает их снять. Как начинается предвыборная кампания – все сразу становятся очень честными, и всех волнует судьба тети Дуси в деревне Большие Шиши. До этого о ней годами не вспоминали, а тут она моментально начинает волновать. Начинают переживать по поводу бездомных детей, послушаешь: какие люди замечательные! А потом видишь этих же депутатов в казино или на дорогом курорте, и понимаешь: все куплено. Видишь, как они сорят деньгами и как их выгуливают спонсоры, которых они лоббируют. Места в Думе стоят огромных денег, и это уже совсем не выбор народа. Это выбор людей, которые хотят иметь в Думе своего человека.
– Вернемся к проверке слухов. Активизировались публикации о том, что ты начал новую жизнь.
– Это правда. Пытаюсь ее выстроить. Встретил любимого человека и счастлив - тут газеты угадали. Мама жива-здорова, живем все вместе. Пытаюсь жить в покое. Если хочется сорваться – писать начинаю. Сценарии пишу, какие-то истории придумываю. Стихи не писал никогда, рассказы – пытался, но не очень получается.
– Скажи, а сцена тебя по-прежнему пьянит, или ты, как опытный хирург, выходишь на операцию с холодной уверенностью?
– Все, как было: и волнуюсь, и руки трясутся.
– Но у меня всегда было ощущение сплошной импровизации – ты на сцене азартен, как игрок в казино.
– Нет-нет, сцена – особое дело. Я играл Верховенского и каждый раз не знал, как все пойдет. Меня тащил текст. И ты идешь вслед за ним, и что при этом происходит - объяснить невозможно. И каждый раз текст читаешь иначе.
– Если каждый раз иначе, то как должны реагировать партнеры? Ты же можешь поставить их в тупик!
– Могу. На сцене бывают вообще безвыходные положения. Шел спектакль «Семья» о юношеских годах Володеньки Ленина. Там была сцена: Александр собрался уезжать в Петербург. И со сцены идет такой диалог: «Уезжаешь?» - спрашивает будущий Ленин. «Уезжаю». – «А куда, Сашенька?» - «В Ленинград». И все. Пришлось дать занавес.
– Что, больше играть уже не могли?
– А что дальше делать-то? Зал катается под креслами, нам на сцене не лучше.
– Вообще-то удивительно, что актеры на сцене еще сохраняют способность слышать друг друга.
– Почему? Я знаю актеров, которые не слышат друг друга. И люблю их раскалывать. Такому не нужен партнер – ты можешь от него уйти налево, он все равно будет к тебе обращаться направо. И реплики ему не нужны – он чешет себе и чешет. Я еще не спросил – он уже мне ответил. Что делать – стою и молчу. Он не понимает, что произошло. Стоит с вопрошающими глазами и чего-то ждет. «Так ты что хотел сказать-то?» - пытаюсь ему помочь. Продолжать в таких случаях очень трудно.
– Страшная профессия.
– А однажды я забыл текст. Ты себе не представляешь, какое это страшное дело – белый лист! Я сижу на авансцене и понимаю, что падаю в обморок. Уже начал заваливаться, но тут Янковский из-за кулис спрашивает: «Так что он сказал?». Тут все восстановилось – и я пошел дальше.
– Вообще непонятно, как в черепную коробку вмещается и там застревает такое количество текста.
– Застревает. Я могу тебе сейчас прочитать весь текст из «В списках не значился», или даже студенческих спектаклей. А что играешь в кино или на телевидении – в памяти не остается. Голова как компьютер: там нажал клавишу «Save», а здесь – «Delete». Чтобы память освободить.
Везуха
– Что нового делаешь в кино?
– Снимаю два фильма: новогоднюю музыкальную комедию и фантастику.
– У них есть названия?
– У комедии много было названий: «Валдайский треугольник», «Миллион в сугробе», «Лузер» - пока не выбрали. Снимаются Никоненко, Розанова, Удовиченко, Макаревич, Бутман, Долина, Нафка, героя я играю. Ему все время не везло, и вдруг в казино он выигрывает машину – знаешь, с бантом, какие стоят напоказ на пьедесталах. И он на ней едет в Питер - выпивши и с бантом. А на дороге – гаишник, которому выпало дежурить в новогоднюю ночь, и сам понимаешь, в каком он настроении. И приходится, конечно, врать, придумывать девушку, которая ждет героя на Валдае. Мы с Владимиром Фатьяновым написали сценарий и будем сорежиссерами. И еще запускаем фильм «Гарин» - по «Гиперболоиду инженера Гарина».
– Так ведь есть уже один.
– Это будет не совсем по Толстому, а «по мотивам»: действие перенесено в наше время. Конечно, лазером сегодня никого не удивишь, и у нас будет техника теплового удара: здесь ударишь – Индонезию снесет. Меня всегда волновали такие истории, какая случилась с академиком Сахаровым: изобрел водородную бомбу – и потом всю жизнь каялся, пытался защитить людей от этой угрозы. Или: атомную бомбу изобрели до войны – что было бы, попади она в руки Гитлеру? Но она попала к американцам, и они ее бросили на Японию. Сейчас они говорят об опасности ядерных вооружений, но словно не помнят уже, кто первый начал.
– А как ты ухитряешься снимать сразу и про машину с бантом и про опасность ядерных вооружений?
– «Гарин» - это чуть позже. А пока зима, надо снять новогоднюю картину.
– Думаешь, то, что за окном – зима?
– А кто знал, что она такая будет? Мне нужно было снять новогоднюю Москву: елки, гирлянды и все такое. И вот мы приезжаем на Пушкинскую площадь, привозим краны, скайлифты, съемочную группу огромную, а снега нет: в декабре – лето! Я понимаю, что это катастрофа, но отменить съемку не могу. По сюжету героя выгнала жена, и он идет одиноко по Тверской до Пушкина, а кругом снег и праздничная Москва. Но раз снега нет – значит, будем снимать без снега. Даже придумали ход: мол, герою так не везло, что и 31 декабря в Москве не было снега! И вот я пошел на исходную позицию, у меня рация. Даю команду: «Мотор!», двинулся по маршруту, камера снимает. И вообрази, немедленно пошел вот такой снег! Настоящий, крупный, рождественский. Метель началась. Прихожу к Пушкину, даю камере команду «Стоп!» - и снег выключился. Я понимаю, что схожу с ума. Но сцена уже снята. И ты ее сможешь увидеть.
– Остается поверить в высшие силы.
– А я верю. Помнишь мои «Задворки» - театральный проект, который шесть лет подряд каждое 6 июля шумел тут во дворе «Ленкома» под открытым небом? И все шесть лет в этот день шел дождь, люди приходили с зонтами. Но за полчаса до начала дождь обязательно прекращался, выходило солнце и все высыхало. На шестой год я уже уверенно приходил в пиджаке и, наблюдая ливень, говорил: «Не будет никакого дождя – мне лучше знать!».
– А как ты поддерживаешь с высшими силами такую оперативную связь?
– Просто я уверен, что если делаешь что-то хорошее, то тебя тот, кто нужно, слышит. На этот счет была еще одна феноменальная история. Предстоял День города. И я предложил Юрию Михайловичу Лужкову сыграть для детей «Бременских музыкантов» на Поклонной горе. Какой там спектакль, говорит, - будут затяжные дожди, метеосводки кошмарные. В Тушино должна быть дискотека – и ту придется отменить. Смотрю на метеокарту – действительно, все затянуто, но есть одна крохотная дырочка. «А это что такое?» - «Ну, часа на два в этой точке дождь прекратится». «Вот в эти два часа я и сыграю спектакль для детей!». Лужков на меня посмотрел как на сумасшедшего, но согласился. Мы под ливнем поставили декорации, аппаратуру брезентом прикрыли. А там уже отменяется дискотека в Тушино, по всей Москве льет. Но без двадцати девять дождь на Поклонной кончается, мы чудно играем спектакль, и на последних поклонах вместо занавеса – ливень стеной. Вот и не верь после этого!
Опубликовать: ЖЖ
Ланселот, или Ниоткуда с любовью








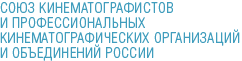
 опубликовал | 29 мая 2013
опубликовал | 29 мая 2013
комментарии (0)