ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТРЕМИЛСЯ К НЕВОЗМОЖНОМУ
В жизни Элема Климова было два рубежа, разделенных десятилетием – гибель его жены Ларисы Шепитько в автокатастрофе и избрание в 1986 г. на пост первого секретаря Союза кинематографистов СССР. На Ларису налетел реальный грузовик, на Элема, как он написал матери в мае восемьдесят шестого – поезд. Это был поезд Истории, из-под которого он – один из машинистов! - выбрался спустя два года и уже больше ничего в кино не сделал - ни «Мастера и Маргариты», ни задуманного фильма о Сталине. Такова была цена власти, добровольно взятой им на себя. Не принять ее он не мог – Климов был настоящим мужчиной, каких тогда почти не осталось в стране, полной баб в штанах, старых маразматиков и детей, и на вызов Времени: «Кто, если не ты?» ответил согласием.
Он сделал то, для чего был призван, да и кому же еще было ликвидировать эту «пыточную», как он называл тогдашнее Госкино, уложившее на полку сначала «Похождения зубного врача», а затем «Агонию». Но затеянная им генеральная перестройка советской кинематографии была не нужна подавляющему большинству признавших его лидерство коллег-современников, которые хотели всего лишь свергнуть цензуру заодно с редактурой и обрести волю, то есть свободу без ответственности за свое художественное поведение. Дальнейшие реформы встречали глухое, но ожесточенное сопротивление. Настоящая свобода востребована не была.
«Мы долбили стену. Долбили кирками, долбили молотками, долбили кулаками, рвали ногтями, били головой. И вот рухнула стена. И открылось зеркало, в котором каждый увидел себя. То, что он собой представляет. И не каждый смог вынести это зрелище» - сказал Климов в интервью «РК», которое, вероятно, оказалось последним в его жизни.
Сегодня, задним числом, видно, что он ушел из власти вовремя. Не в его силах было переделать советских кинематографистов, остановить разгул экранной вседозволенности и удержать наше кино от выдавливания из наших же кинотеатров. Но из кино он ушел рано, на пике своей формы, как спортсмен (Климов когда-то был баскетболистом). Последним его фильмом стала апокалиптическая фреска с названием из откровения Иоанна: «Иди и смотри». Более жуткого фильма о войне, чем сделали бывший белорусский пацан-партизан Алесь Адамович и бывший сталинградский пацан Элем Климов, никто до них не делал. По этой картине особенно видно, как влекли Климова бездны и потусторонние просторы - отсюда, а не только из внешней стати его магнетическое обаяние! - и безмерно жаль, что он не осуществил своих грандиозных замыслов. Но, по его убеждению, к тому была веская причина: «Есть слова Андрея Платонова: «К невозможному летят наши души». После «Иди и смотри» мне интересно только невозможное. И я его придумал. Но снять его невозможно. У кинематографа просто нет таких художественных средств». На меньшее, чем невозможное, этот человек не соглашался.
СМЕХ И УЖАС
Первый же общий взгляд на творчество Климова обнаруживает в нем два периода. Перелом обозначен в фильме «Спорт, спорт, спорт» (1970). До этого ленты Климова смешны, после этого - страшны. Комедийно-сатирические тона («Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен», 1964; «Похождения зубного врача», 1965) сменяются трагедийно-апокалиптическими («Агония», 1974; «Прощание», 1982; «Иди и смотри», 1985). Перемену тональности можно объяснить личными, общественными или экзистенциальными причинами, но стоит заметить, что оба метафизических начала, смешное и страшное, полярны и потому не существуют друг без друга - как белое и черное, доброе и злое, сухое и мокрое. Убитый страх порождает смех, и, напротив, нет более верного способа убить смех, чем устрашить. На грани между ними располагается черный юмор, которым Климов владел и в кино, и в жизни. Об этом свидетельствуют, например, сцена боя между опричником Кирибеевичем и купцом Калашниковым в фильме «Спорт, спорт, спорт», а также неснятый эпизод с гигантским фаллосом, который на глазах изумленной публики растет из убитого Распутина, и устный рассказ режиссера о мытарствах в коридорах цензуры, изображавший министра Госкино мастером пыточных дел. Другое дело, что в жизни владение киноискусством страха и киноискусством смеха обычно разведены: комедиографы не снимают триллеров, а мастера ужаса не делают комедий. В литературе способность смешить и способность страшить сочетаются куда чаще, как в Гоголе, Достоевском, Салтыкове-Щедрине или Булгакове. О кинематографических планах Климова в отношении «Мертвых душ» ничего не ведомо, однако известно, что он намеревался трансформировать для экрана «Бесов», «Мастера и Маргариту» и вполне щедринскую историю с чучелом, которое ретивые царедворцы Екатерины II чуть было не сделали из живого немца. Сходным талантом, судя по всему, обладал великий остроумец Эйзенштейн, но этой его способности так и не дали толком проявиться в кино.
С советской цензурой у Климова всегда были нелады - и когда он пользовался эзоповым языком, и когда говорил напрямую. Сквозь сатиру на пионерский лагерь («Добро пожаловать») просвечивала сатира на весь лагерь социализма, но не потому, что режиссер закладывал в фильм столь широкое обобщение, а потому, что один лагерь имел корневое сходство с другим, и наблюдательный человек, зря в один корень, невольно извлекал на свет все его аналоги. Картину почти уложили на полку - говорили, что из-за факультативного сходства между начальниками обоих лагерей, товарища Дынина и товарища Хрущева, и спасло ее лишь то, что второго скинули вслед за первым. От смены начальства лучше не стало, поскольку лагерные порядки держались не только на верхах, но и на низах, как это и показано в «Похождениях зубного врача». Одним из главных законов советского тоталитаризма было «трамвайное» правило: «Не высовывайся!», будь как все, не выделяйся из толпы - не то оторвут все выступающие части. Дантиста (первая кинороль Андрея Мягкова), который безболезненно удалял зубы, прямо по Шигалеву сравняли с окружающим пейзажем. При этом ирония Климова распространялась не только на первую, но и на вторую реальность: в «Похождениях» он походя открыл то, что через тридцать лет назовут стебом, спародировав хрестоматийную сцену штурма Зимнего Дворца из эйзенштейновского «Октября» (это же первый пример «постмодернистской» цитаты в отечественном кино).
При таком начале казалось совершенно очевидным, что режиссер, взявшись за тему распутинщины, решит ее в сатирическом ключе - тем более, что к такому подходу давал основания как исторический материал, так и советская традиция киноизображения царской власти. Но не тут-то было - Климов назвал картину совсем не комическим словом «Агония», и шутить не собирался, хотя еще не мог знать, что «Агония» окажется первой частью апокалиптического триптиха, который завершит его собственный кинематограф. Сила фильма состоит как раз в абсолютной серьезности и всамделишности воссозданного на экране, в том числе в редкой убедительности актеров, особенно Алексея Петренко, сверхъестественно сыгравшего главную роль Григория Распутина.
Не так просто понять, почему эта обличающая царизм лента попала под запрет свыше. Министр Госкино Ермаш и директор Мосфильма Сизов считали ее выдающейся, так что министр пытал режиссера по обязанности, а не по своей воле. Советский режим уже впадал в маразм, но еще не агонизировал, и потому усмотреть в картине намек на свои предсмертные судороги не мог. Смешно говорить и о том, что действительной причиной цензурных санкций было сочувственное отношение режиссера к царю: на такую мелочь вполне можно было закрыть глаза, так как последний российский император (вершина актерского мастерства Анатолия Ромашина) в «Агонии» довольно жалок. Более существенным проступком было то, что темным силам прошлого не противопоставлены светлые силы будущего, но и это можно было бы стерпеть или поправить титром типа «Меньше, чем через год разразилась революция, о необходимости которой так долго говорили большевики»… и вот тут, похоже, скрывалась закавыка. Дело в том, что в универсуме «Агонии» светлые силы не просто отсутствуют - они в нем онтологически, бытийно невозможны. Этот мир настолько органичен в своей тотальности, что условных кинобольшевиков в него не вписать, как не вписать фрагмент из картины соцреалиста Бродского в картину реалиста Веласкеса (разве что в постмодернистском киче, который Климов предвосхитил в «Спорте», но до которого был не охотник). Их можно вписать в мир «Агонии» только такими же страшненькими, как их противников. То же относится и к третьей силе - народу, который представлен на экране либо мечущимися толпами, либо своим выходцем, болотным пузырем, пуком из нутра народной жизни Гришкой Распутиным. Иными словами, «Агония» на подкожном уровне свидетельствует о том, что никакого прыжка из царства тьмы в царство света не будет, а будет другая тьма, не менее кромешная. Это и есть российский «Апокалипсис сегодня», снятый за пять лет до Копполы.
В «Прощании», где показан вселенский конец света в отдельно взятой деревне, Климову не удалось отвертеться от демонстрации силы, которая во имя светлого будущего отправляет на дно конкретного водохранилища темное прошлое, но он поставил ее в такой контекст, который убил все произносимые ею слова. Представителями этой силы выступают несколько почти космических, но отнюдь не комических пришельцев - поджигателей деревни (похожих выродков, будто в рифму, камера Алексея Родионова выхватит из толпы фашистов в «Иди и смотри»), а также Алексей Петренко, но уже не в роли беса, а в облике как бы положительного руководителя, убеждающего народ, что по берегам пустынных волн, вот-вот покроющих деревушку, вырастут новые города, где будут жить счастливые люди. А далее Климов сажает руководителя на катер и отправляет с факелом в непроглядный речной туман. Более зловещий, более символический и в то же время реалистический эпизод выдумать было невозможно.
Вряд ли в 1985 году многие смогли по достоинству оценить мрачную двусмысленность первых кадров «Иди и смотри», где переодетые немцами партизаны забирают мальчика Флеру в партизанский отряд. Никто уже не расскажет, сознательной была эта двойственность или нет, но Адамович и Климов приоткрыли тайну последующего кошмара. Ведь первые кадры картины - это первый день творения, до которого «земля была безвидна и пуста», и если первый шаг в них делают «наши», то они и заварили кровавую кашу, которая перехлестнет через край к концу фильма, сделав просмотр почти невыносимым. Известно ведь, что вторгнувшихся в Советский Союз немцев порой встречали как освободителей, да и сами они подчас считали себя таковыми (об этом см. в документальном фильме «Сталинград» по сценарию Германа Климова, консультантом которого был Элем Климов). В любом случае, им не было резона ожесточать против себя народ: Гитлер, внимательно изучавший наполеовскую эпопею, знал, что такое дубина русской народной войны. Еще лучше знал это Сталин, но он понимал и то, что такая дубина сама собой может и не подняться. Именно у него был прямой смысл ожесточить народ против немцев, и нетрудно поверить, что он, имея в распоряжении армию провокаторов из НКВД, прибегнул к провокации, как прибегнул к ней после войны в борьбе против прибалтийских и украинских националистов. Переодеть в гитлеровскую форму несколько особых отрядов, забросить в немецкий тыл, чтобы перестреляли сотню-другую оставшихся под фашистами «предателей» и спалили пару деревень, а дальше понятно - мужики рванутся в леса и начнут террор против немцев, те ответят удесятеренным террором, и пойдет эскалация насилия, которой нет конца. Дурную бесконечность обрывает мальчик, который не может выстрелить в ребенка по имени Адольф Шикльгрубер. Столь откровенно символический финал мог бы показаться иллюзорным, если не вспомнить, что бывший сталинградский мальчик Элем Климов через год после окончания фильма возглавил Союз кинематографистов, оборвал дурную бесконечность советского кинематографа и остановил «пыточную машину» Госкино.
Эта интерпретация климовского творчества позволяет под иным углом осветить тайну его почти двадцатилетнего режиссерского молчания. Конечно, после глубин Апокалипсиса он не мог снимать «горизонтальное» кино (как не мог он, «познавший Лилит» в облике Ларисы Шепитько, жениться на земной женщине), но никто не мешал ему продолжить начатое под названием «Воланд», «Бесы» и «Сталиниада» (от слова «ад»), так же обращенное к современности, как его прежние работы. Никто, кроме него самого. В 90-е годы, когда апокалиптические настроения стали разменной монетой беллетристов из всех лагерей, он, искренне считая происходящее трагедией, не мог присоединиться к этому траурному хору. Что-то его удерживало - и вряд ли то, что он был одним из могильщиков старого режима. Думаю, это была спрятавшаяся от него самого надежда.
Опубликовать: ЖЖ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТРЕМИЛСЯ К НЕВОЗМОЖНОМУ








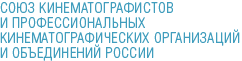
 опубликовал | 09 июля 2013
опубликовал | 09 июля 2013
комментарии (0)