Первый большой фильм “Свой среди чужих…” практически не помню – мне были неинтересны вестерны. Но в памяти зафиксировалось: у нас появился очень хороший режиссер, и это тот случай, когда природа на детях не отдыхает.
“Раба любви” тут же вошла в число любимых. Отточенная до блеска и в то же время азартная работа с актерами, отличное чувство юмора, роскошь живописи, атмосфера импрессионистична, колеблется, дышит. Мне там было дорого еще и тонкое использование музыки: Эдуард Артемьев написал мелодии, которые не стали шлягерами, но засели в сердце – потом они стали позывными всего михалковского кино. Потому что режиссер был несомненно музыкальный, сам кадр вибрировал музыкальными звучаниями, монтаж прихотливо взаимодействовал с музыкальными ритмами. Такое мало кто умеет.
“Неоконченная пьеса для механического пианино” обладала всеми этими качествами, но актерские работы стали еще более выпуклыми, броскими, концертными и в то же время идеально ансамблевыми. Каждому персонажу придумана повадка, в которой выражена суть характера. Потом, когда фильмов станет много, проявится, что актеры, даже такие мощные и самостоятельные, как Табаков и Калягин, охотно работают здесь с режиссерского показа, подхватывают и развивают намеченные режиссером эскизы – настолько эти эскизы талантливы, содержательны и выразительны.
“Пять вечеров” были сняты в короткой паузе между “Неоконченной пьесой…” и “Обломовым” – что-то к новому фильму было не готово, а простоя не хотелось. Собрал актерскую команду, создал в ней атмосферу дружественности и своего фирменного азарта, за короткий срок возник абсолютный шедевр, где ушедшая эпоха проявилась в ее давно исчезнувших деталях, в самом тоне лирического кинорассказа, и актеры, все без исключения, пережили свои звездные часы. На экране шла история о том, как упрямо прорастают закатанные в бетон травинки. За экраном чувствовалось настоящее счастье творчества.
“Несколько дней из жизни И.И. Обломова” хранили все эти уже фирменные режиссерские приемы и качества. Но стали более рельефными и идеологичными метафоры, их стало больше. Уже на вступительных титрах возникал образ страны, спящей в непроходимой трясине: шпили и дворцы Петербурга тонули в болоте. Тоскливое биение мухи об оконное стекло выражало состояние всей России, погруженной в вечный нескончаемый сон.
Я восхищался емкостью этих метафор и еще не предполагал, что для режиссера такое состояние России станет не столько болью, сколько константой. Такая Россия требует особого управления: ей нужен отец родной, заботливое всевидящее око государево, она будет благодарна за милости, дарованные сверху, она терпеливо их ждет, и если умело управлять ею – способна свернуть гору. А потом снова уснуть до первой побудки.
Это был первый случай, когда режиссер пока ненавязчиво, пока средствами высокого и тонкого искусства, но уже обозначил будущие идейные споры. Эту картину можно было интерпретировать. Но если для меня думать о такой России было больно, это ее состояние было гибельно и требовало каких-то фундаментальных перемен, то режиссер находил в таком ее состоянии ее прославленную “особость”. Через несколько лет, на пресс-конференции съемочной группы фильма “Утомленные солнцем” в Канне режиссер объяснит журналистскому интернационалу эту особость России: “Вы поймите, - говорил он, – Россия – это страна, где лузгают семечки”. Семечки он трактовал как национальный код, меланхолическое сплевывание шелухи было знаком особого и непреходящего состояния русской души. Он говорил об этом снисходительно по отношению к России и одновременно с явной любовью.
Эта любовь была ностальгична и до увлажнения глаз искренна. Эта была любовь дворянина-барина к своим крепостным. В ней чувствовалась гордость Ноздрева: а моя Палашка петь умеет – заслушаешься, а плотник Семен – он золотые руки!
В великолепном по всем параметрам фильме «Обломов» впервые произошел тот слом траектории развития большого таланта, который уведет его в сторону совсем другую - туда, где таланты долго не живут: ложная идея, туманящая сознание и делающая слепой душу, их обязательно задушит.
«Родня» уже точно определяла эту траекторию. В бравурном фильме, где все эмоции размашисты, где «раззудись плечо и размахнись рука», уже шло отчетливое противопоставление России патриархальной, глубинной, все еще крепостной в своем сознании – и России, купившейся на чужие соблазны и оттого теряющей себя, свою «самость». В фильме снова были блестящие актерские работы, но прозрачная, словно дышащая акварель сменилась жирными масляными мазками, небрежно нанесенными рукой гения, сознающего свою гениальность.
Затем пришла пора растолковывать свое понимание России Западу. С Западом режиссер разговаривал уже как художник знаменитый, возможно, самый знаменитый и авторитетный в России. Разговаривал как бы на равных, но снисходительно, с мягкой учительской улыбкой: ведь Запад не знает о России того глубинного, что знает режиссер. И Запад режиссеру верил.
Запад полюбил фильм «Очи черные» - это там самый знаменитый фильм из всей уже обширной фильмографии режиссера. Возможно, потому, что это единственный его фильм, где снялся известный Западу суперстар – великий Марчелло Мастроянни. Но еще и потому, что в этом фильме Западу предстала та Россия, какую тот ждал: чуть загадочная, непознаваемая и непредсказуемая, с цыганами и медведями, с водкой и разгулом. То, что в самой России фильм отчетливо отдавал развесистой клюквой, режиссера совершенно не смущало – картина делалась с точным расчетом на совсем другие экраны в совсем других странах. Она должна была ввести режиссера в круг мирового бомонда и сделать его там своим. Она это сделала.
«Автостоп» уже вовсе не был адресован России, а только Западу. Он был снят на деньги какой-то итальянской автомобильной фирмы и получил приз на фестивале рекламы в Милане. Там итальянцы ехали по неопределенным российским просторам и подбирали голосующую на дороге беременную бабу с суетливым мужичонкой. Подобранные русские бурно удивлялись и восхищались заморской диковинкой: и какие там ручки красивые, и как стекла едут туда-сюда, - словно никогда не видели автомобиля. А потом баба начинала так же суетливо и заполошно рожать прямо на кожаном сиденье – и оказывалось, что эта итальянская машина и для такой надобности тоже замечательно приспособлена.
Такой оригинальный ход был найден, чтобы отрекламировать итальянский автострой. Барская любовь к своим темным, но плодовитым крепостным здесь изумительно гармонировала с удивленной снисходительностью продвинутого динамичного мира к стране потенциально гениальной и великой, но увязшей раз и навсегда. К стране, где лузгают семечки.
Фильм крутился на западных фестивалях, но в СССР не шел. В «новой России» его покажут только по телевидению – уже как шалость признанного гения.
Дальше в траектории развития режиссера начнутся малопонятные и не очень внятные завихрения. Уверенная поступь сменится движениями мелкими и хаотичными. В фильмографии возникнут названия, которые зрителям не говорят ничего, но зачем-то, по-видимому, нужные. Это походило на какие-то неопределенные, но чувствительные метания души, на неуверенность и самоуговор: «Сентиментальное путешествие на мою Родину», «Мама», «Отец», «Генерал Кожугетыч», «Русский выбор». Настойчивое пробивание к своим корням, смакование ветвистости своего генеалогического древа, своего дворянства. Любовь к патриархальной стране, лузгающей семечки, перерождалась в патриотическую проповедь, в самосознании режиссера ведущей мелодией становилось миссионерство. Возделывать родную почву, культивировать и утрамбовывать ее сообразно своим представлениям художник теперь считал своим государственным долгом. Он даже взял себе роль отца-покровителя, государя императора на белом коне в новом фильме «Сибирский цирюльник». Государь принимал военный парад, бравые русские офицеры преданно смотрели ему в очи черные, и под покровительством солдатских сапог в полной безопасности чувствовал себя крестьянин-воробушек, беспечно скачущий по каменной мостовой родины-матери. Режиссер примеривался к тому, чтобы режиссировать Россию.
Эта вверенная ему Россия свободно говорила по-английски и по-французски, она была открыта миру, но, в отличие от мира, была образованной и знала, кто такой Моцарт. А люд в ней отчетливо делился на кость белую и кость черную. Кость белая остроумно пикировалась на раутах, пела «Свадьбу Фигаро» на юнкерских любительских спектаклях, романтически влюблялась и была готова на подвиг. Кость черная гуляла на ярмарках, пила водку и каждый миг доказывала свою могутность. И не было в мире людей более мирных, чем русское офицерство, но если враг нападет, если темные силы нагрянут, если послышится кому-нибудь стук бесовских копытцев – тут уж нет пощады.
Хороший был фильм, идеологичный.
Потом настала пора фильмов-цифр: «12», «55», «УС-2»…
В «12» режиссер уже не играл императора – эта должность была уже занята. Он взял себе роль всевидящего ока. Оракула, провидца, человека из органов, возможно бога. Бог был лукав: три часа фильма он делал вид, что внимательно слушает своих соратников, товарищей по оружию. А потом открывалось, что ему все было ведомо с самого начала, что он прозревал вглубь и видел потаенное. Все умопостроения его соратников представали суетой бессмысленной, но, по-видимому, ритуально необходимой: народ надо выслушать, а потом делать по-своему. Сделать по-своему богу в фильме не удалось, потому что игра в демократию по определению губительна. Соратники-присяжные путем голосования настояли на своем, не вняли гласу высшего разума - и погубили вверенную им человеческую душу. И горечью затуманились очи черные, оракуловы, божьи. Он ведь предупреждал, что справедливость не всегда есть благо. Благо – это отеческое наставление, это мудрость высших. Сказано есть: «В тюрьме ему будет лучше, безопасней». Но не вняли колебанию сфер. И вот уже уличный пес поганый несет, как победное знамя дьявольское, по вымершим улицам обглоданную человечью руку. Таковы, по фильму, зловещие плоды свободы, которая, по всем церковным мудростям, суть ересь.
В «УС-2» уже не было места ни акварели, ни живописи, ни искусству, только идеологии. Воссияли иконы, крестились некрещеные и какал им на головы лютый враг. Но это такие свежие раны, что писать о них снова не нужно.
Самой поражающей цифирью стали 65. Как, думаешь, только-то? А какая огромная, какая головокружительная проделана эволюция.
И какой замечательный повод для ностальгии. Пересмотрим «Неоконченную пьесу». Она ведь не окончена, она с открытым финалом. Путь режиссера – это действительно путь России. Он уже сделал выбор. Она все еще на распутье.
Опубликовать: ЖЖ
65








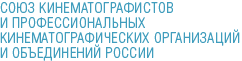
 опубликовал | 21 октября 2010
опубликовал | 21 октября 2010
комментарии (2)
Степан Богданов 27 октября, 21:01
Великолепно! Точно,сочно,кристально чисто. Спасибо! Rуда-то выпала " Урга", но и она легко оказывается в логике предложенной концепции.