Ситуация в стране и в обществе нынче такова, что сам собой назрел разговор о конформизме. Ну, и, понятное дело, о нонконформизме.
Выступление Парфенова разбередило старые раны.
Не понятно, чего в его поступке больше конформизма или нонконформизма? По крайней мере, в общественном мнении на сей счет согласья нет.
Поначалу преобладали отклики, провозглашавшие лауреата премии Листьева оплотом нонконформизма. Сегодня все чаще можно встретить скептические оценки. Иные из них довольно ехидные. Как, например, со стороны Сергея Доренко. Он сказал примерно следующее: Леня пожаловался своему другу Косте на его начальника Костю.
Были и совсем злобные комментарии. Не стану их пересказывать. Крутым оппозиционерам вроде Лимонова особенно должно было быть обидно. Они выкрикивают в адрес власти и не такое. Они режут правду-матку, называя выскопоставленных чиновников по именам, по должностям, а их никто не слышит. На них никто не реагирует.
А тут такое волнение внутри журналистской корпорации… Оно отозвалось и в блогосфере. И тоже оказалось противоречивым.
***
Интервью, взятое лауреатом у выздоравливающего журналиста Кашина, слушалось и смотрелось как причащение перед подвигом. Самый значащий с этой точки зрения мотив – разговор о «флажках». Интервьюер интересуется, что могло стать показателем выхода его, Кашина, за ту границу, за которой он подлежал бы наказанию. Говоря прямее: где граница?
Интервьюируемый не знает. По собственной оценке он не такой глубокий исследователь-расследователь, чтобы его тексты представляли какую-либо угрозу для их героев. Его журналистика – это журналистика «мнений», оценочная. То есть публицистика. И это не случай Политковской.
И, следовательно, возможно, дело не в том, что он, журналист, нарушил негласную конвенцию. Дело в том, что сама конвенция изменилась. «Сейчас ты не меняешься, граница меняется», -- заметил Олег Кашин на больничной койке.
Граница подвинулась, и теперь стало возможным избивать (и, не исключено, убивать) за резкую публицистику. Такой вывод мог сделать Леонид Парфенов, принимая решение сказать речь, в которой вышел за флажки неофициально согласованного дозволения.
Он «вышел», и мир не перевернулся. Но что-то в этом мире произошло. Неприметное на слух, но ощущаемое на запах. Как выразился сам Парфенов: «Маргинальная вроде среда начинает что-то менять в общественной ситуации, формирует новый тренд».
Формирующийся «тренд» дал о себе знать и в кинематографическом углу нашей действительности. Михалков все вроде бы сделал, чтобы маргинализировать несогласных с собой коллег. И вроде бы достиг безоговорочной победы. Он сумел организовать бумажный кворум московских членов СК (к тысяче живых кинематографистов присоединилась тысяча доверенностей). Он продавил устраивающее его положение о квоте делегатов очередного внеочередного съезда (один делегат от 35 членов).
Наконец, сам съезд победителей был проведен в отдалении от Москвы, от прессы, на режимном объекте Госфильмофонда, где руководству СК легко было проштамповать нужные пункты в Уставе. И еще пункт сверх него: был узаконен новый руководящий орган «Попечительский совет», включающий в себя государственных чиновников. В новом Уставе предусмотрены механизмы затыкания рта критикам руководства СК.
Словом, курс на огосударствление некогда славной и влиятельной общественной организации, каковой и был СК, приобрел неуклонный и необратимый характер. О нем в течение двух последних лет предупреждали оппоненты Михалкова, в числе которых значились и Герман-старший, и Рязанов, и Хуциев, и Бардин, и Досталь, и Хржановский, и Фатеева, и другие видные представители киносообщества.
И вот в тот момент, когда показалось, что михалковской команде удалось с помощью изобретательных процедур закатать несогласие в асфальт. Вдруг ни с того, ни с сего из-под него просочился голос одинокого человека.
Адрашитов тоже говорил по бумажке. Но и как в случае с Парфеновым писанный текст прозвучал убедительно. И что опять же было важно: Абдрашитов бросил свои обвинения непосредственно в глаза всесильному кинематографисту.
«…Наш Союз болен, болен тяжело…
…Наше сообщество не должно быть пародией на какое-то министерство, партию, контору, на что-то около-вроде-государственное…».
Далее последовал вопрос ребром о том, какой Союз нужен кинематографистам? Союз коллег? «Или как бы вертикальное квазиведомство с иерархией давно уже не творческих заслуг, с назначаемыми секретарями, с режимом личной преданности особой тройке? Хотим безмолвного паралича даже тогда, когда решается судьба всего кинематографа в целом?»
Делегаты были не против, поскольку Михалковым была обещана прибавка к пенсиям и к другим вознаграждениям.
Тем временем, Абдрашитов вспомнил о том, как нынешний председатель боролся с идеей обновленного Союза: «Стыдно, даже позорно, но в ход пошёл жупел и оранжевой революции, и заокеанских и западных врагов России, и иностранных денег для развала вначале СК, а затем и всей России!».
Напомнил он и о случае исключения из СК президента Гильдии кинокритиков «за одно только сомнение в правдивости отчётного доклада». «Напомню, -- добавил выступивший, -- из общественной организации? А потом ещё шили грязные стукаческие обвинения».
Делегаты с непроницаемо-равнодушными лицами и это «скушали», украдкой стерли плевки и принялись уговаривать вышедшего за флажки режиссера не волноваться, стали рассказывать, как они его уважают за талант, за принципиальность… Никита Михалков вспомнил, что он как-то после какого-то его фильма ему позвонил с выражениями восторгов. Названия понравившегося фильма, правда, не мог вспомнить, но свой телефонный звонок не забыл.
Толерантность коллег Абдрашитова тем, возможно, объясняется, что в зале прозвучала правда для узкого круга. От нее можно и отмахнуться. Ее можно и не заметить.
Парфенов-то прав: «Журналиста бьют не за то, что он написал, сказал или снял. А за то, что это прочитали, услышали или увидели».
Абдрашитова не прочитали, не услышали и не увидели. Его бить не за что. Сегодня, по крайней мере.
***
Одно утешение, что в результате таких нонконформистских поступков, какие себе позволили Кашин, Парфенов, Абдрашитов, все-таки, «формируется тренд». В результате ставятся под сомнение рамки конформизма, и в социально-общественном поведении какую-то роль начинает играть что-то глубоко личное. Например, совесть.
Тем временем, на больничной койке Олег Кашин, примерил на себя, судя по интервью Леонида Парфенова, роль «совести нации». Примерил, и она ему не понравилась.
Эта роль таит в себе понятный соблазн. Но ее опасность в том, что легко превращает конкретного человека в символ. А совесть слишком живое чувство, чтобы без потери для ее носителя поддаться олицетворению.
Опубликовать: ЖЖ







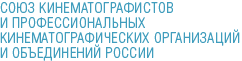
 опубликовал | 03 декабря 2010
опубликовал | 03 декабря 2010
комментарии (2)
Степан Богданов 05 декабря, 00:10
Замечательно! Спасибо, Юра, за непрерывно пульсирующую мысль и настоятельно необходимые в позорное наше время призывы к пробуждению совести. Пусть пока призывы эти слышит ооочень маленькая часть и нашего сообщества, и общества в целом... Может, со временем и проснёмся...