Режиссер Эрик Гандини, наполовину итальянец, наполовину швед, прославился полтора года назад, когда в Венеции показали его документальный фильм «Видеократия». В нем рассказывается о том, как созданное Берлускони телевидение на протяжении нескольких десятилетий отравляло моральный климат в стране, пропагандируя безответственность, эгоизм и полузапретные развлечения. Картина не содержит сенсационных фактов: три героя — деревенский дурачок, мечтающей о славе телезвезды, влиятельный папарацци и его духовный наставник — с разных сторон представляют общество, на которое через телеэкран проецируется сознание одного единственного человека. «Видеократия» бурно обсуждалась не только в Италии (где она вышла в широкий прокат) и в других странах; в России фильм был впервые показан в конце декабря прошлого года на открытии «Артдокфеста» — документального киносмотра, символом которого является перечеркнутый телевизор.
Помимо «Видеократии», Гандини сделал еще несколько документальных работ (в том числе Sacrificio, фильм о Че Геваре) и вместе со своим товарищем Тариком Салехом («Метропия») основал студию Atmo, на счету которой недавний победитель гетеборгского конкурса фильм «Обезьянки» и прошлогоднее «Искушение святого Антония» эстонского режиссера Вейко Ыунпуу.
OPENSPACE.RU поговорил с Гандини на фестивале в Гетеборге, где он участвовал в семинаре о современной документалистике (другие его участники — румынский режиссер Александру Соломон и британский киновед румынского происхождения Адина Брэдяну).
-Сейчас, полтора года спустя после премьеры в Венеции, можете подвести итоги: каким был отклик на «Видеократию» в Италии?
-О, это был успех. Фильм в кино в ста копиях вышел. Особенно на последних неделях проката народ повалил, политическая ситуация помогла.
«Видеократия» была снята еще до того, как появились все эти скандальные подробности про увлечение Берлускони молодыми женщинами. Когда информацию стали публиковать, люди впервые осознали простой факт: то, что они видят по телевизору, в большой степени порождение сознания одного-единственного человека. До того Берлускони считался добропорядочным семьянином, с папой за руку здоровался, с мировыми лидерами. Не было историй про извращенные манипуляции пожилого политика с молодыми женщинами.
Понимаете, закон не изменился, но изменился моральный климат в стране. Берлускони создал целое культурное движение имени себя. Берлусконизм утверждает: «Да все в порядке, ты чего? Мы все такие! Не плати налоги, делай как я!» Он изменил представления общества о том, что является допустимым, — и это еще хуже, чем вносить коррективы в закон. Исказилось сознание целой нации! Мне кажется, итальянцы переживают состояние, известное как «стокгольмский синдром». Когда заложники начинают любить своих мучителей, находить для них оправдание. Поначалу люди в Италии говорили: «В “Видеократии” нет ничего нового». Знаете, мы больше времени потратили, сочиняя для фильма музыку, чем на поиск фактуры. У нас не было задачи создать журналистскую сенсацию. Понимаете, когда Берлускони критикуют (преимущественно слева), то всегда вываливают тонны фактов — вот, дескать, полюбуйтесь. Но он всегда побеждает, потому что обращается не к разуму, а к чувствам. Он телезвезда. Задача «Видеократии» — предъявить критику на эмоциональном уровне. И публика со временем все почувствовала правильно. Но мне вот интересно, а что за дела у Берлускони с Путиным? Что их так тесно связывает?
-Ну, у нас примерно то же самое. Коррумпированная верхушка развращает общество своим примером. Тоже в некотором смысле «делай как я».
-Думаю, что для такого человека, как Путин, Берлускони стал чем-то вроде пропуска в мир европейской демократии. И одновременно примером того, как, находясь в этом мире, можно осуществлять авторитарный контроль. И для Мубарака (которого больше нет), и для Каддафи Берлускони является отличным примером того, как можно под демократической витриной скрывать совершенно постыдные вещи. И в этом смысле его власть — некая новая форма квазитоталитаризма. Это не старый добрый тоталитаризм, построенный на страхе. Просто людям предлагается очень интригующая идеология. Ты можешь быть эгоистом! Жизнь прекрасна, когда у тебя есть деньги, женщины, развлечения!
-Забавно: когда руководителей российского телевидения упрекают в том, что они создали уродливый гибрид развлекательного и пропагандистского телевидения, они отвечают: в Италии телевидение еще хуже.
-(Смеется.) Это правда. В Италии хуже.
-Людям, которые наблюдают со стороны, не очень понятно, как это могло случиться в Италии — европейской стране с огромным количеством интеллектуалов, с таким культурным наследием.
-Медленное поступательное движение. Если бы людям тридцать лет назад сказали, куда всё движется, они бы не поверили. Но они адаптируются, и уже адаптировались к тому, что их лидер одержим молодыми женщинами. Ну ладно, говорят они, а кто нет? Помню радиоинтервью с женщиной, депутатом парламента (она была певицей в 1980-х), и ее спросили напрямую: «Берлускони плохой или хороший?» Конечно, говорит, он хороший, он benefattore — тот, кто творит добро, просто «он любит свежее мясо». Ведущий поперхнулся и сказал: «Тот, кто любит свежее мясо, может пойти в мясную лавку». И тут эта дама шестидесяти лет — так сказать, законотворец — говорит: «Вот вы когда захотите пойти на свидание, — вы выберете пожилую женщину вроде меня или юную девушку?» Если даже женщина так говорит, можете представить, что в головах у мужчин в этой среде?
Аморальность постепенно разъедает общество. Понимаете, это такая культура банальностей, она обладает огромной силой. Культура банальности хочет сделать вид, что она безобидна: «Да ладно, мы только веселимся». Но именно она становится нормативной — в Италии, потому что ее догмы транслируют по телевизору.
-Телевизор обеспечивает ей легитимность.
-Да. Таково чудесное свойство телевидения — оправдывать того, кто хорошо смотрится в кадре. Ты можешь быть вором, негодяем, но, пока ты существуешь на экране телевизора, твое поведение воспринимается как норма. Это — ну он такой, мы его каждый день видим в новостях, мы привыкли, он наш! Вы знаете шутку: если серийному убийце предоставить эфир, зрители скажут: да он отличный парень! В телевизоре нет понятия «плохой» или «хороший». Есть только «симпатичный» или «скучный». У скучного парня будут проблемы. А если он улыбается, тогда все в порядке.
-«Видеократия» стала довольно заметным фильмом не только в Италии, но и в остальной Европе и в США. Вообще мне кажется, что в последнее время с документальным кино происходит что-то крайне интересное. Оно обретает новые формы, занимает все больше внимания. Интерес аудитории растет. Когда и почему, как вы думаете, это началось?
-На протяжении многих лет документалистика была, знаете, такой… Как бы это сказать?
-Смертной тоской.
-Да. Она ориентировалась на передачу сухой информации. Очень долго документалисты были ограничены сводом правил, поскольку с этим типом кинематографа связано много этических проблем. Я еще помню эти постоянные дебаты: что ты имеешь право делать, чего не имеешь. Не используй музыку. Не манипулируй героями. Не дружи с ними. Не плати им деньги. Не выражай свою точку зрения. Возможно, причина этих споров в том, что документалисты вообще очень любят поговорить. Или в том, что предыдущее поколение — люди, выросшие в 1960—1970-х, — сильно идеологизированы. Меня подобные разговоры всегда удивляли, потому что документалистика — предельно свободный жанр. Можно делать все, что угодно. Ограничение одно: ты снимаешь реальность, а стиль и метод — твой выбор. Сейчас мы можем навскидку назвать десять — двадцать режиссеров, которые делают совершенно разные вещи. Один снимает синема-верите, другой строит фильм на закадровом комментарии, третий делает экспериментальные коллажи. И теперь мы точно не сможем привести документалистику к одному знаменателю. Ее стало много.
Мне кажется, первые изменения случились в начале 1990-х, когда жанр стал очень личным. Режиссер перестал быть беспристрастным наблюдателем, заявил о себе как о художнике, выражающем определенную точку зрения. В том числе и политическую, как Майкл Мур, например. Парадоксальным образом именно в этом обнаружилась какая-то новая аутентичность документалистики. Честность. Автор начал высказывать свое мнение — не словами, а тем, как он делает фильм. И аудитория поверила в эту честность, потому что за высказыванием стоял конкретный человек, а не некая бездушная институция под названием «документалистика».
-Но это уже скорее публицистика.
-И хорошо. Есть еще и технический аспект. Этот жанр дает возможность снять фильм за небольшие деньги, но выглядеть он будет как произведение искусства. Есть хороший пример — «Армадилло» (фильм снят в эпицентре войны НАТО с «Талибаном»; в Москве демонстрировался в конкурсе фестиваля «2-in-1». — OS). Как сорок лет назад освещали войну во Вьетнаме? Сначала журналистика, потом документальное кино, а потом игровое. Но время сжимается, и мы видим документальные фильмы, которые выглядят не хуже, чем «Апокалипсис сегодня» или «Повелитель бури». Я уже говорил, что не гонюсь за новыми фактами: кто хочет информации, может пойти на пресс-конференцию или в лекторий. Я хочу, чтобы зритель получал от моих документальных фильмов те же эмоции, которые он получает от игровых картин. И это возможно.
Вопрос еще в том, успела ли адаптироваться аудитория. До сих пор существует предубеждение, что документалистика — это такой журнализм на экране. Но скоро оно исчезнет.
-Не является ли интерес к документалистике частью какого-то большего процесса? В нулевые годы в игровом кино доминировал реализм, люди стали в огромных количествах читать нон-фикшн. Реальность превратилась в актуальный тренд.
-Черт, реальность — это интересно! Мы живем в мире избыточной информации, телешоу, новостей и так далее. Мне кажется, психологически важно знать: то, что ты видишь, — правда. В потоке информации человеку нужна точка опоры, какая-то артикулированная достоверность. И документалистика дает ему эту точку, заключая со зрителем базовое соглашение: то, что ты видишь, — не выдумка.
-То есть как бы вешает лейбл «Это реальность!».
-Да. Но когда вы говорите, что это тренд, я сразу думаю: «Так, а завтра что будет трендом? Анимация?»
-Или документальная анимация.
-Да, кстати. Интересная штука. Но я думаю, что документалистике нужны были эти десять — двадцать лет переходного периода. Помню, я читал интервью с Вимом Вендерсом, конца 1980-х, может быть. Он рассказывал, как трудно ему было понять американский способ кинопроизводства. В Америке так: есть сценарий, ты идешь на площадку, и сценарий — это Библия, правила, которые нельзя нарушать. А в Европе, говорил Вендерс, мы скорее позволяем процессу развиваться естественно, пусть все идет как идет. И я вдруг понял, что документалистика — единственный жанр, в котором тебе изначально позволяется работать с непредсказуемостью. С собственной интуицией.
Режиссеры игрового кино сегодня тратят два-три года на то, чтобы найти бюджет, и это, считай, хорошо. Слишком сложная система финансирования индустрии — международная, разветвленная. Бергман работал совершенно в других условиях. Две картины в год мог выпускать. А сейчас… Если успеешь десять фильмов снять за жизнь, тебе повезло. Авторы игрового кино парализованы страхом — слишком много людей вовлечено в процесс, деньги поставлены на кон… В документальном кино ничего похожего попросту нет. Я беру камеру, еду на объект и смотрю, что произойдет. Непредсказуемость в документалистике в отличие от игрового кино — союзник, а не враг, она вдохновляет. И я почти не связан с другими людьми, я могу быть тем, кто действительно делает фильм. У меня своя продакшн-студия, мы снимаем игровое кино, и я вижу, как это происходит: еще на стадии принятия решения сидят десятки людей, у каждого свое мнение, а итог один — страх. Если молодой человек сегодня захочет прийти в кино, ему проще всего начать с документалистики.
Но у нас свои проблемы, например монтаж. Как отобрать из этой уймы отснятого материала то, что действительно важно?
-У вас ведь были сложности на стадии монтажа «Видеократии»?
-У меня всегда сложности — из-за моего метода. Я не использую сценарий. У меня всегда есть некая идея, план, потом я иду и пробую — и, как правило, от синопсиса в итоге не остается ничего. Потом, уже на стадии монтажа, я решаю, на чем сделать акцент, заново все это структурирую. Иногда приходится доснимать. В игровом кино это почти невозможно, но вот мой друг Маттео Гарроне, автор «Гоморры», тоже делает именно так (он, кстати, пришел в игровое кино из документального) — оставляет себе двухнедельное окно для досъемок, если чего-то не хватит в готовом материале. Для продюсеров такая практика — кошмар, но согласитесь, что в ней есть логика.
-Кстати, документалисты сплошь и рядом переходят в игровое кино. Зачем, если у них такая хорошая работа?
-Ммм… Я и сам сейчас работаю над сценарием игрового фильма. Почему? Говорю за себя. Когда ты работаешь с материалом документального фильма несколько лет, он поглощает тебя целиком, доминирует над всей твоей жизнью. В игровом кино тоже есть место непредсказуемости, импровизации (на репетициях, например), но у материала изначально структура другой жесткости. В документальных киноэссе весь мир может стать твоей съемочной площадкой, сценарий приходит на стадии монтажа или съемок. Я просто хочу инвертировать процесс. Попробовать с другого конца. Посмотреть, можно ли привнести элемент импровизации в некоторые фрагменты постановочного кино.
Чему можно научиться в документалистике? Не позволять страху управлять собой. И монтажеры у нас гораздо более изобретательны, чем в игровом: это ученые, готовые в любой момент отказаться от результатов предыдущей работы, чтобы начать поиск решения с нуля. Думаю, игровое кино только выиграет, если в него придут документалисты. Маттео Гарроне — один пример. «Вальс с Баширом» — интересный синтез игрового и документального. Херцог снимает документальное кино тем же способом, которым он снимает игровое: организует пространство под свой замысел, рассказывает истории, просит людей сделать что-то перед камерой. Это нормально.
-Расскажите о своей студии Atmo.
-Это наша продакш-компания, основана она около десяти лет назад. Мы ориентируемся главным образом на режиссеров. Я, Тарик, Кристина [Аберг] — наш продюсер. Работаем с режиссерами, у которых не очень коммерческие, но интересные для нас идеи. Почему? Потому что в этом мире легко оказаться в одиночестве. У поколения наших родителей существовала мифология Автора. Кого-то вроде Ингмара Бергмана, который живет один в глуши, в пещере, потом выходит на свет со своим новым шедевром в руках, чтобы снова удалиться…
– Или на острове.
-Именно, Бергман был таким. Я очень его уважаю, но эта мифологическая модель больше не функционирует. Мы верим в содружество единомышленников. Ты не можешь быть великим мастером вечно, тебе отпущен очень короткий срок. А потом приходит кто-то другой.
-Это ведь какая-то типичная история. Повсеместно образуются маленькие фракции кинематографистов, которые снимают фильмы и одновременно продюсируют друг друга. Как, например, греческие режиссеры Йоргос Лантимос и Афина Рахель Цангари.
-Сегодня это единственный способ что-то создавать, иметь возможности, ресурс. Когда у тебя есть компания, ты можешь легче пережить все взлеты и падения собственной кинематографической карьеры. Дело не только во взаимной моральной поддержке. На поиски финансирования уходит много времени — на что-то же ты должен опираться?
-Вы снимаете не только полный метр, но и видео, и короткометражки…
-Да, но мы не работаем с рекламой, это принципиальная позиция. Некоторые говорят: «Ой, ну мы снимаем рекламу, чтобы финансировать остальные наши проекты».
-Рой Андерссон так делал.
-Да! Я думаю, это один из лучших режиссеров в мире. Но мне жаль, что он снимал эти рекламные ролики. Лучше бы занялся кино. У него получилось и то и другое, но большинство людей, которые снимают рекламу и мечтают о большом кино, никогда никем не становятся. Ты должен сделать выбор!
-Вы не только производите фильмы, вы же следите за их дальнейшей судьбой, чтобы не работать в пустоту.
-Когда ты мал, ты в руках других. Мы занимаемся не только фестивалями, но и рынком, и дистрибуцией. Пытаемся делать фильмы, у которых будет экранная судьба за пределами Швеции. Швеция слишком мала для нас, она не обеспечивает необходимым ресурсом для выживания. Да и зрителям в других странах мы нравимся больше (смеется). Тарик наполовину египтянин, я наполовину итальянец. У нас космополитичная компания, такова реальность сегодняшнего дня.
Мария Кувшинова, Openspace
Опубликовать: ЖЖ
«Культура банальности хочет сделать вид, что она безобидна»








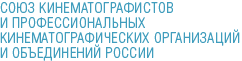
 опубликовал | 28 февраля 2011
опубликовал | 28 февраля 2011
комментарии (1)