Сегодня Александру Сокурову исполняется шестьдесят лет. Журнал «Сеанс» поздравляет Александра Николаевича с юбилеем и публикует статью Олега Ковалова о картине «Фауст» из книги «Сокуров. Части речи», новое, дополненное издание которой выйдет в июле.
Фильм «Фауст» завершает грандиозную постройку Александра Сокурова — цикл его фильмов «Молох», «Телец», «Солнце», — это указано в титрах, да и сам режиссёр настаивает на том, что именно «Фауст», снятый по мотивам трагедии Иоганна Вольфганга Гёте, является ключом ко всей его тетралогии. Неужели оттого только, что тираны XX века — Гитлер, Ленин и не слишком известный у нас даже по имени Хирохито — заключили пакт с нечистым и этим уподобились Фаусту?
«Вместо герменевтики нам нужна эротика искусства», — так завершила Сьюзен Зонтаг своё знаменитое эссе, направленное, как гласит его заголовок, «против интерпретации». Под «эротикой искусства» она, разумеется, имела в виду чувственное восприятие искусства: всякие там интерпретации, полагала Зонтаг, сводят безмерность истинного произведения к худосочной схеме, тогда как чувственное познание сразу и глубоко проникает в его суть.
Зонтаг — кинозритель изощрённый и эрудированный: в выдающиеся фильмы 2001 года она включила «Молох» Сокурова, а в «Лучшие фильмы всех времён» — его шедевр «Камень» (1992), — многие ли на родине мастера хотя бы слышали это название? Так что доверимся её наитию и посмотрим пристальнее на фильм «Фауст», последнюю часть сокуровской тетралогии.
В массовом сознании Гёте предстаёт суховатым кабинетным мыслителем — меж тем его «Фауст» пронизан прямо-таки неистовым карнавальным духом. Люди, звёзды, богини, знатные господа и фантастические животные сошлись в хороводе — словом, «соприкоснулись в простодушье все виды жизни, все миры».
Условием полноценной жизни была для Гёте синхронность теории и опыта, «Слова» и «Деяния». Потому в «Фаусте» нет деления на «реальное» и «воображаемое» — свой фантастический мир Гёте с удовольствием описывает как мир истинный, к тому же — знакомый всем и каждому. Первые же слова Мефистофеля, обращённые к Господу, просто ошарашивают: «К тебе попал я, Боже, на приём…» — в очереди он, что ли, отстоял, как в советском учреждении? Поневоле поверишь слухам, что к переводу Бориса Пастернака приложила свою очаровательную руку Ольга Ивинская.
Но… даже если и так? В языковой стихии «Фауста» поэтические перлы пересыпаются самыми неизысканными, а то и неуклюжими оборотами — сплавляясь в гремучую, на «изящный вкус» филистера, субстанцию, — в действительности родственную биологической материи и передающую ощущение некоего динамического перехода от Хаоса к Космосу. Это не просто смесь «низкого» и «высокого», это некая «первоткань», знать не знающая всех этих рационалистических условностей; это музыка деятельного созидания, нескончаемо длящегося Дня Творения. Ясно, отчего Фаусту так трудно было выбрать и «остановить» одно единственное мгновение этого бытийного потока.
Сокуров же, напротив, создаёт ощущение какого-то вселенского тупика и запертой, застоявшейся в жилах крови. Героям здесь — словно бы толком не… расположиться в пространстве: едва возникнув, они как-то мучительно долго приспосабливаются, притираются друг к другу прямо в кадре. Часто не понять, отчего это персонаж приседает, когда должен вроде бы встать на цыпочки, привстаёт, когда следует присесть, или суетливо устремляется куда-то, бестолково размахивая руками, а то вдруг — застывает, впадая в тяжёлый ступор. Кажется, что эти герои утоплены в вязком, лишённом естественного простора, просветов и глубины, пространстве. Эта среда столь же неестественна для нормального человека, как толща вод, сомкнувшихся над головой — немудрено, что персонажи фильма как будто не слышат и даже не видят друг друга: бесконечно переспрашивают, повторяют обрывки фраз, аукаются в двух шагах, как в лесу. Сами их неприкаянные тела выглядели бы здесь как ошибка природы… если бы природа, как это часто бывает в кино, и в полном согласии с воззрениями Гёте, представала на экране неким мерилом гармонии.
Но как героям этой ленты не расположиться привольно в пространстве, так и глазу зрителей не отдохнуть на привычных кинематографических красотах — на каком-нибудь, скажем, живописном пейзаже. Энтропия, неизлечимая болезнь, которой поражён мир фильма, — разрушение, обращение всего сущего в пыль и прах — выражена здесь через пожухшее, как упавший осенний лист, словно бы распадающееся на частички и вот-вот готовое исчезнуть экранное изображение.
Никто, конечно, не ждал, что Сокуров приведёт на экран Мефистофеля в ниспадающем плаще, с острой бородкой и демонически сдвинутыми бровями, но степень отступления не только от оперного штампа, но и от образа, созданного Гёте, в его фильме поражает.
«Мы с жилкой творческой, мы род могучий, // Безумцы, бунтари…» — горделиво заявляет Мефистофель в трагедии и, действительно, иной раз предстаёт не скептиком и циником, а вдохновенным миросозерцателем. Вон какие картины он в пылу увлечения разворачивает перед Фаустом: «…Есть даже в океане // На что смотреть, не всё пустая гладь. // Там видно, как не устаёт играть // Твоею жизнью волн чередованье, // Как плещутся дельфины, как в пучину // Глядится месяц, звёзды, облака…»
Но вместо этого поэта и провокатора, легкого на подъём, меняющего обличия и ощущающего себя где угодно как рыба в воде, на экране предстаёт удивительно неуклюжее и малоподвижное существо. Этот Мефистофель — страдающий одышкой, еле передвигающийся, бормочущий себе под нос какую-то невнятицу — не более чем старый урод, кряхтун с торчащим косым брюхом, грушевидной фигурой и редкими рыжеватыми волосёнками. Пластичного Антона Адасинского в этой роли можно опознать разве что по финальным титрам.
Его герой то и дело портит воздух, мается животом и присаживается по нужде в самые неподходящие моменты. Фаусту он даже не особенно и навязывается — душа того, видно, не представляет большой ценности. Да и Мефистофель не очень-то нужен этому не слишком истерзанному трудами и думами крепкому плечистому Фаусту. Несчастного брата Маргариты он убивает как-то походя, в общей свалке, и без подначек нечистого. Да и гнусный замысел отравления матери Маргариты возникает словно бы не только помимо воли Фауста, но и вообще без чьего-либо участия, как будто зарождаясь в самом отравленном воздухе глубоко нездорового мира.
Фауста Гёте к союзу с чёртом толкает неутолимая страсть к познанию. Сокуровский Фауст подписывает дьявольский договор, когда фильм перевалил далеко за половину, а после просит, чтобы Мефистофель быстренько — вынь да положь! — организовал ему свидание с Маргаритой. Это довольно странно. Вспомним живые взгляды, которыми на первой же встрече одарила его эта милая девушка: ничто вроде не мешает герою добиваться её расположения самостоятельно. Но этот Фауст словно рождён временем, чьи высшие идеалы — набитый желудок и плотские услады, временем, которое понимает слово «познание» разве что в самом интимном смысле.
Словно в пику этой пропаганде примитивного гедонизма придумана поразительная сцена «неутоления» телом Маргариты. Ночь любви похожа на болезненную галлюцинацию, а от утра в захламлённом, бесприютном, развороченном, как после обыска, жилище, куда, тихо ступая, уже входят неумолимые и молчаливые посланцы небытия — хоть волком вой. Фауст отчаянно стремится зарыться в некогда вожделенное, а теперь отчуждённое, не родное и теплое, как это бывает после сближения, тело Маргариты, распластанное на постели, как в анатомическом театре или на операционном столе. Но оно словно отторгает его: для человека, продавшего свою душу, мир ближнего уже недоступен, а тело… что тело? Оно для Фауста не более чем трофей.
Что же в финале? Совершая титаническое усилие, Фауст побивает Мефистофеля — даже не каменьями, а огромными валунами — и с патетическими возгласами о счастье, которое он принесёт благодарному человечеству, устремляется «дальше… дальше… дальше…», к величественно белеющей вдали горной гряде.
Так Фауст, наконец, освобождается от докучливого духа зла и как бы «очищается от скверны». Но это только на первый взгляд. Не значит ли этот финал нечто совершенно другое? Ведь сокрушая дряблую оболочку Мефистофеля, в услугах которого он уже больше не нуждается, душепродавец Фауст уничтожает и чувство вины за свои вольные или невольные деяния и окончательно переходит на сторону тьмы.
И вот эта пышущая здоровьем, замечательно полноценная биологическая особь — человекообразный гомункул, та агрессивная пустота, что страшнее любого злодейства, — ничем и ничуть не терзаясь, спешит к новым горизонтам и новым подвигам на благо всего прогрессивного человечества. Эстафету зла примут надёжные руки.
Чем не приквел к циклу Сокурова о тиранах…
Горные вершины, к которым радостно мчится сбросивший камень души и совести Фауст, — не воспетые ли это немецким режиссёром Арнольдом Франком величественные снежные громады, на фоне которых обожал позировать Адольф Гитлер, большой поклонник героических кинопоэм? Ядовитая пародия. Этот эффектный мотив нацистской мифологии есть и в фильме «Молох»: горы, среди которых устраивает свой пикничок верхушка Рейха, предстают оптически искажёнными, криво стоящими на фоне грязноватых, словно несвежая простыня, небес. Они кажутся фальшивыми и плоскими. Тираны в фильмах Сокурова вообще дышат не разреженным воздухом горных высот, а гнилостными миражами: недаром герои его тетралогии то и дело жалуются на то, что мир «дурно пахнет», а то и испускает зловоние.
О стабильности как некоем нерушимом идеале сегодня прожужжали все уши, однако бытийной нормой является развитие. Так называемая «социальная стабильность» — это искусственное запирание крови, ведущее к стагнации, распаду и гниению общества. Эта участь не минует и самих временщиков, которые окончательно превратятся в механических кукол, бледное подобие великих функционеров прошлого, цепляющихся за фикцию власти.
Мудрый человек, музыкант, пианист, оперный дирижёр, профессор консерватории, библиофил Михаил Бихтер записал в своём «блокадном дневнике», когда вроде бы не время было отвлекаться на подобные «непатриотичные» рассуждения: «Одержимые природой только внешней (административной, политической, экономической и т. д.) власти стремятся к созданию замены самих себя устойчивым, выражающим их позиции суррогатом». Тетралогия Сокурова и рассказывает историю превращения властолюбивой персоны в обездушенный фантом или историю нравственного уродца, обречённого на бытийное одиночество.
«Слоняясь без пути пустынным краем, // Ты затеряешься в дали пустой. // Достаточно ль знаком ты с пустотой?» — спрашивал в трагедии Мефистофель. Когда летом 1975 года Вячеслав Михайлович Молотов простодушно рассказывал благоговейно внимавшему ему Феликсу Чуеву, что их общий кумир иногда снится ему — «В каком-то разрушенном городе… Никак не могу выйти… Потом встречаюсь с ним. Одним словом, какие-то странные сны, очень запутанные», — он вряд ли понимал страшный смысл своих снов. Возможно, они были и не снами вовсе, а то ли весточками «оттуда», то ли прозрением картин инобытия, ожидающим каждого Хозяина жизни.
Олег Ковалов, «Сеанс»
Опубликовать: ЖЖ
Сегодня Александру Сокурову исполняется шестьдесят лет.








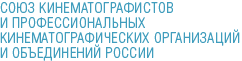
 опубликовал | 14 июня 2011
опубликовал | 14 июня 2011
комментарии (0)